Olga
Воскресенье, 19 Май 2024 09:41
Книжные новинки 2024. Весна. Иностранный язык, немецкий
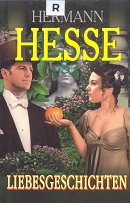
ГЕССЕ ГЕРМАН. Истории о любви = Liebesgeschichten : [на немецком языке] / Hermann Hesse ; составление, комментарий, словарь Т. В. Ряпиной. - Москва : Айрис-пресс, 2013. - 189, [1] с. - (Читаем в оригинале). - 18+. - ISBN 978-5-8112-5118-6. - Текст : непосредственный.
ИНО;
В настоящем сборнике представлены ранние рассказы Германа Гессе, поэта, прозаика, философа, одной из величайших фигур XX века. В рассказах о любви отражена романтическая природа его творчества: переживания, поиск. Даже в первые годы творчества видно несомненное достоинство его произведений, в которых начинающий писатель только предугадывает темы своих будущих открытий.
Издание сопровождается словарем и лексико-грамматическим комментарием.

ДЬЯКОНОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ. Нескучная немецкая грамматика : что такое ДЕРДИДАС? / Олег Дьяконов. - Москва : Эксмо, 2017. - 284 с. : ил. - (Язык без репетитора). - 12+. - ISBN 978-5-699-66411-5. - Текст : непосредственный.
ИНО;
Это учебное пособие предназначено для тех, кто хочет разобраться в трудностях немецкой грамматики. В книге собраны ответы на вопросы, наиболее часто возникающие у изучающих немецкий язык. Объяснения грамматических явлений даны живым, образным языком, забавные примеры и яркие образы способствуют лучшему усвоению материала. Структура книги и стиль подачи материала призваны помочь быстро вспомнить забытые и прояснить непонятные аспекты немецкой грамматики.
Пособие предназначено для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык. Оно станет незаменимым справочным изданием для старших школьников и студентов, для тех, кто учит язык самостоятельно или с преподавателем на так называемом "продолжающем" уровне.
МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Немецкий язык : краткая грамматика / Матвеев С. А. - Москва : АСТ, Lingua, 2018. - 127, [1] с. - (Экспресс-грамматика). - 12+. - ISBN 978-5-17-104518-0. - Текст : непосредственный.
ИНО;

Ночная песнь странника = Wandrers nachtlied : из немецкой лирической поэзии XVIII, XIX, XX веков / пособие подготовил Илья Франк. - Москва : Восточная книга, 2013. - 382 с. - (Метод обучающего чтения Ильи Франка). - На обл.: Учим язык, читая интересные книги!. - На нем. и рус. яз. - ISBN 978-5-7873-0747-4. - Текст : непосредственный.
ИНО;
Книга представляет собой собрание немецких лирических стихотворений, адаптированных (без упрощения текста оригинала) по методу Ильи Франка. Уникальность метода заключается в том, что запоминание слов и выражений происходит за счет их повторяемости, без заучивания и необходимости использовать словарь.
Пособие способствует эффективному освоению языка, может служить дополнением к учебной программе. Предназначено для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык и интересующихся немецкой культурой.
Воскресенье, 19 Май 2024 07:54
Книжные новинки 2024. Весна. Иностранный язык, китайский

ЧЖАО ШАОЛИН. Ошибка, ошибка, ошибка! : [книга для чтения для изучающих китайский язык] / Чжао Шаолин ; перевод с китайского Жуковой Е. В. - Москва : Шанс, 2019. - 70, [3] с. - (Китайский бриз. Уровень 1:300 слов). - На кит. и рус. яз. - 16+. - ISBN 978-5-907015-72-2. - Текст : непосредственный.
ИНО;
Книга для чтения "Ошибка, ошибка, ошибка!" из серии "Китайский бриз" предназначена для изучающих китайский язык. Она поможет в освоении новой лексики и расширении словарного запаса. Издание относится к уровню 1: чтобы освоить новую лексику из пособия, необходимо знать 300 базовых слов.
Воскресенье, 19 Май 2024 07:51
Книжные новинки 2024. Весна. Иностранный язык, испанский
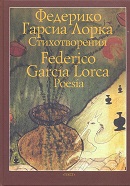
ГАРСИА ЛОРКА ФЕДЕРИКО. Стихотворения / Федерико Гарсиа Лорка ; перевод с испанского Анатолия Гелескула ; составление, предисловие и комментарии Натальи Малиновской. - Москва : Текст, 2021. - 220, [1] с. - (Билингва). - Текст парал. рус., исп. - 16 . - ISBN 978-5-7516-1519-2. - Текст : непосредственный.
ИНО;
Три книги великого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936): "Цыганское романсеро", "Диван Тамарита" и "Сонеты темной любви" вместе с оригинальными текстами на испанском языке.
Комментарии и предисловие составителя, известного испаниста Натальи Малиновской посвящены родному городу поэта - Гранаде, одной из древних столиц Андалузии. Земля, взрастившая и погубившая поэта, - истинный протагонист "Цыганского романсеро" и действующий фон остальных двух книг.
Федерико Гарсиа Лорку на родине по праву сравнивают с Лопе де Вегой и Кальдероном, а в России - с Пушкиным. И это не преувеличение. Национальные гении, ставшие национальными мифами, они явственно перекликаются. Их творчество всеобъемлюще, но и тот, и другой прежде всего поэты. Этот ряд совпадений только усиливает давний, незатухающий интерес к Лорке русского читателя.
Воскресенье, 19 Май 2024 07:39
Книжные новинки 2024. Весна. Естественные науки

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР БОЛЕСЛАВОВИЧ. Химия - просто : история одной науки / Александр Иванов. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 255 с. : ил. - (Библиотека Гутенберга). - 0+. - ISBN 978-5-17-100779-9. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Книга об истории развития человеческой цивилизации с точки зрения химии.
В книге последовательно описываются химические элементы в порядке, в котором они были открыты и какой вклад они внесли в развитие технологий на момент их открытия. Описывается: открытие, применение, некоторые забавные факты об элементе, основные свойства,которыми пользуется человек.
А вы когда-нибудь задумывались, как открытие того или иного химического элемента, влияло на быт человека, его технологии, на то, как менялись взгляды на устройство окружающего мира? Эта книга как раз об этом. Мы пройдем от медных орудий труда древних людей до современного ядерного оружия и посмотри как изменился наш мир.

ПОДЫМОВ ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ. Псевдонаука : разоблачение обмана и заблуждений / Леонид Подымов. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 478, [1] с. : ил. - (Библиотека Гутенберга). - Библиогр.: с. 454-476. - 12+. - ISBN 978-5-17-100781-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Мы задействуем свой мозг на 10%. Свинья - ближайший генетический родственник человека. После смерти тело человека уменьшает массу на 21 грамм. В научном мире до сих пор спорят о том, кто строил пирамиды. Ученые нашли Ноев ковчег. Всё это - примеры псевдонаучных утверждений, которые мы охотно тиражируем в сосцетях, даже не задумываясь о проверке.
Как определить достоверность научной информации? Чем наука отличается от псевдонауки? На какие уловки в рассуждениях мы попадаемся чаще всего? Обо всем этом рассказал в своей книге старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин УИ ГА, автор научно-популярного проекта "Простая наука" Леонид Подымов.

ПОЗДНЯКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. Любительская астрономия : люди, открывшие небо / Ирина Позднякова. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - 334, [1] с. : ил. - (Библиотека Гутенберга). - 0+. - ISBN 978-5-17-100784-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Чем притягательны для нас просторы Вселенной, как люди открывали для себя ее тайны, какие виды астрономических наблюдений доступны любителям и чем астрономы-любители могут помочь профессионалам даже сейчас, в век высоких технологий и гигантских телескопов? Обо всем этом читатель узнает из книги. В ней рассказано о том, чем занимаются астрономы-любители, дается обзор основных типов объектов и методов наблюдения. Кроме того, вы узнаете об истории астрономии и о людях, живших в прошлом, и наших современниках, которые двигали и двигают вперед науку о небе, не будучи профессиональными астрономами. Вы получите информацию об открытиях комет и астероидов, экспедициях по поиску метеоритов "из первых уст" - в книгу включены интервью с известными российскими астрономами-любителями.
Воскресенье, 19 Май 2024 07:37
Книжные новинки 2024. Весна. Детская литература. Художественная 6+

Баба Яга : [для чтения взрослыми детям / иллюстрации Ирины Егоровой]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2021. - 75, [2] с. : ил. - (7 лучших сказок малышам). - Содерж.: Три медведя; Гуси-лебеди; Коза-дереза; Дочь и падчерица; У страха глаза велики; Петушок и чудо-меленка. - 6+. - ISBN 978-5-378-03198-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;

ВЕББ ХОЛЛИ. Котенок Усатик, или Отважное сердце : повесть : [для среднего школьного возраста] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [пер. с англ. М. А. Поповец]. - Москва : Эксмо, 2023. - 138, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - На обл., корешке и тит. л.: #эксмодетство. - 6+. - ISBN 978-5-04-096900-5. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Белянка, кошка Эмили, родила котят! Прекрасное событие! Один из детей Белянки, крошечный белый котёнок Усатик, оказался очень робким и пугливым. Но Мия, подруга Эмили, была достаточно терпеливой и доброй, чтобы завоевать его дружбу. Они — девочка и котёнок — очень привязались друг другу, и Эмили надеялась, что вот-вот Мия поговорит со своими родителями и забёрет Усатика в новый дом.
Время шло. Котёнок подрастал, Мия всё так же с ним играла и словно бы совершенно не собиралась делать Усатика своим питомцем. А потом по объявлению пришла милая девушка и захотела взять белого котёнка себе… Неужели Мие и Усатику предстоит разлучиться?

ВЕСТЛИ АННЕ-КАТРИНЕ. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик : повести : [для среднего школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского Л. Г. Горлиной ; художник Наталья Кучеренко. - Москва : Махаон, 2022. - 220, [3] с. : ил. - Содерж.: Папа, мама, бабушка и восемь детей в лесу. - 0+. - ISBN 978-5-389-11925-3. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
"Жила-была большая-пребольшая семья: папа, мама и целых восемь детей… А ещё с ними жил небольшой грузовик, который они все очень любили. Ещё бы не любить – ведь грузовик кормил всю семью!" Вот так писательница представляет своих героев. Она рассказывает о жизни многодетной семьи, в которой взрослые всегда находят общий язык с детьми. Автор не скрывает, что любит своих героев, и её любовь передаётся читателям.
"Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик" – книга для семейного чтения, в которой детям без нравоучений и назидательности, с юмором преподносятся уроки жизни.
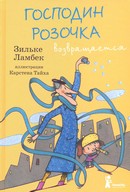
ЛАМБЕК ЗИЛЬКЕ. Господин Розочка возвращается : [для младшего школьного возраста] / Зильке Ламбек ; иллюстрации Карстена Тайха ; перевод с немецкого Т. Набатниковой. - 2-е изд., стер. - Москва : КомпасГид, 2017. - 189, [2] с. : ил. - Вторая часть трилогии. - 0+. - ISBN 978-5-00083-367-4. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
"Господин Розочка возвращается" - вторая часть трилогии немецкой детской писательницы Зильке Ламбек. В первой книге читатель познакомился с восьмилетним Морицем, его семьей и весьма необычным пожилым господином, который живет этажом ниже. Зовут его Леопольд Розочка, и он знает, где собрать урожай зонтиков, как разговорить самого настоящего слона и найти крошечного паркового тигра. Мориц уже успел к нему привязаться, но господину Розочке пришлось срочно уехать. На прощание он подарил мальчику подзорную трубу. Как-то раз Мориц от нечего делать решил в нее заглянуть… И увидел нечто невероятное. Похоже, одному очень хорошему человеку грозит опасность, и только Мориц может ее предотвратить. Но без господина Розочки ему не справиться. Мориц должен во что бы то ни стало его разыскать.

ЛАМБЕК ЗИЛЬКЕ. Куда пропал господин Розочка? : [для младшего школьного возраста] / Зильке Ламбек ; иллюстрации Карстена Тайха ; перевод с немецкого Т. Набатниковой. - 2-е изд., стер. - Москва : КомпасГид, 2018. - 255, [3] с. : ил. - Третья часть трилогии. - 0+. - ISBN 978-5-00083-432-9. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Во всей Германии не отыскать человека более таинственного и удивительного, чем господин Розочка. Потому, вероятно, истории о нём так полюбили читатели во всём мире. И вот она - долгожданная финальная часть его приключений. Да и как не ждать с нетерпением книги, в которой маленькие чудеса случаются повсеместно, делая будни похожими на сказку?
Десятилетний Мориц растерян: куда подевался неунывающий старичок, с которым он так сдружился? В своём почтенном возрасте господин Розочка энергичен, весел, полон желания уберечь всех вокруг от бед - уж с ним-то самим не могло ничего случиться! Должно быть какое-то объяснение его исчезновению, верно? Хотя бы фантастическое? Да-да, вы же помните, что от господина Розочки можно ждать чего угодно!
Но и без чудаковатого соседа жизнь мальчика бьёт ключом: у него появляется новый друг Сильвио, он волшебным образом мирится с главным школьным хулиганом Штефаном, а ещё… ещё в комнате Морица теперь живет самый настоящий тигр! Самый настоящий, только ручной - спасенный от назойливых фотографов в парке, когда из кармана Морица выкатился стеклянный шарик… Какой такой шарик? Постойте, не все сразу! Читайте и узнаете!

ЛАРРИ ЯН ЛЕОПОЛЬДОВИЧ. Необыкновенные приключения Карика и Вали : сказочно-фантастическая повесть : для среднего школьного возраста / Ян Ларри ; художники А. Чукавин и И. Уварова. - Москва : АСТ, Малыш, 2020. - 381, [2] с. : ил. - (Дошкольное чтение). - Текст печатается без сокращений. - Соответствует ФГОС ДО. - 6+. - ISBN 978-5-17-133996-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Однажды во Всесоюзный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства обратился Самуил Маршак с необычной просьбой: написать книгу о науке для детей. Например, познакомить ребят с энтомологией. Дело поручили Яну Леопольдовичу Ларри (1900-1977), который был в этом институте аспирантом, а параллельно печатал статьи для газет и журналов. Получившаяся рукопись очень понравилась С. Я. Маршаку, и он сам взялся за её редактирование.
Сейчас каждый ребёнок и взрослый имеет возможность познакомиться со сказочной повестью "Необыкновенные приключения Карика и Вали", где ребята, выпив волшебного раствора, уменьшаются до размеров букашки и попадают в удивительный мир природы, где обитают страшные насекомые, а опасность подстерегает на каждом шагу.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. Сказки и истории : о животных, людях и мире природы : для маленьких и постарше : [для младшего школьного возраста] / Леонардо да Винчи ; перевод Александра Махова ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 2018. - 117, [2] с. : ил. - 0+. - ISBN 978-5-699-99955-2. - Текст : непосредственный.
КХ;
Великий художник и учёный эпохи Возрождения ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452 - 1519) предстаёт в этой книге тонким и мудрым сочинителем. Его сказки и притчи стали доступны нашему читателю благодаря переводам Александра Борисовича Махова, много лет проработавшего в Италии, знатока истории, литературы и искусства, обладателя золотой медали Итальянской республики за переводы итальянской поэзии. Книга, которую вы держите в руках - это счастливое сочетание результатов творчества этих незаурядных личностей, разделённых несколькими веками. Эта книга - прекрасный повод провести время с детьми за чтением и обсуждением прочитанного. Короткие мудрые истории Леонардо настолько просты, что ребёнок сможет прочесть их и самостоятельно.

Пора снежных историй : сборник рассказов : [для среднего школьного возраста] / перевод с английского П. Агафоновой. - Москва : Эксмо, 2023. - 222, [1] с. : ил. - На обл., корешке и тит. л.: #эксмодетство. - Содерж. авт.: Брод М., Вебб Х., Питчер К. и др. - 6+. - ISBN 978-5-04-116468-3. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Когда снег заметает окно, всегда приятно закутаться в уютное одеяло и при свете лампы читать про чудеса. Ведь хорошая книга - немаловажная часть зимней магии.
Про волшебство и сны, про птиц и зверей, про желания и неожиданные подарки, - здесь вас ждут новогодние истории от звёзд британской литературы. Среди них есть и новый рассказ от обожаемой в России Холли Вебб!
Небольшие рассказы идеальны для того, чтобы ребёнок втянулся в чтение. А крупный шрифт и прекрасные чёрно-белые иллюстрации ему в этом помогут и не дадут испортить зрение.

Рассказы о войне : [для детей среднего школьного возраста / составитель Юдаева Марина Владимировна] ; художник Ольга Подивилова. - Москва : Самовар, 2019. - 189, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека). - Произведения печатаются без сокращений. - Содерж. авт.: Кассиль Л., Погодин Р., Митяев А., Осеева В., Симонов К., Толстой А., Шолохов М., Богомолов В. - 6+. - ISBN 978-5-9781-0975-7. - Текст : непосредственный.
ХЛ;

УСАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Все о Дракоше : сказочные повести : [для младшего школьного возраста] / А. Усачев, А. Березин ; иллюстрации А. Гардян. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 395, [4] с. : ил. - Содерж.: Дракоша и компания; Дракоша выходит в люди; Дракоша в городе. - 6+. - ISBN 978-5-353-06190-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Весь цикл историй о приключениях маленького зеленого и очень любознательного Дракоши в одной книге. В сборник вошли все три сказочные повести: "Дракоша и компания", "Дракоша выходит в люди" и "Дракоша в городе". Они расскажут о жизни малыша-дракончика в обычной московской семье Дружининых, о летних приключениях на даче, знакомстве с соседями, ворами и даже милиционером.
Придумали Дракошу два замечательных детских писателя – Андрей Усачёв и Антон Березин. У них получилась очень семейная книга, которая показывает примеры взаимоотношений между братом и сестрой, между детьми и родителями, а еще прививает любовь к чтению. Герои научат каждого читателя любознательности и смекалке, дружбе и взаимовыручке, учиться и не бояться ошибаться! Ведь все можно исправить, главное – извлечь ценные уроки.

УСАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Крокодил, который не плакал : сказки / Андрей Усачёв ; художник Т. Никитина. - Москва : Время, 2018. - 111 с. : ил. - (Время - детство!). - 0+. - ISBN 978-5-9691-1655-9. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Замечательный детский писатель Андрей Усачев озабочен, как всегда, самыми серьезными вопросами: как рыба-прилипала спасла мир; почему утконос стремился на край света; что было в сумке у кенгуру; почему эму не летает; отчего дикая собака динго не хочет стать домашней; почему коала всегда опаздывает… Ответы на все свои вопросы Андрей Усачев на этот раз ищет в Австралии, где и водятся эти необычные для наших краев звери. Обо всех он написал, кроме одного.
Есть, говорят, в Австралии
Ужасный зверь кускус.
Такой он зверь... Я далее
Писать о нём боюсь.
Боюсь, что я начну писать,
А он начнёт кус-кус-кусать!
Ладно, отложим этого зверя до следующей книжки - авось Андрей Алексеевич станет смелей.
Воскресенье, 19 Май 2024 07:19
Книжные новинки 2024. Весна. Детская литература. Художественная 12+

БЕРНЕТТ ФРЭНСИС ЭЛИЗА. Маленькая принцесса, или История Сары Кру : роман : [для среднего школьного возраста] / Фрэнсис Бёрнетт ; перевод с английского Нины Демуровой ; иллюстрации Лейлы Казбековой. - Москва : Махаон, 2023. - 349, [2] с. : ил. - (Классная классика). - 0+. - ISBN 978-5-389-13629-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
В 1905 году детская писательница Фрэнсис Бёрнетт (1849-1924) написала удивительную историю о необычной девочке Саре Кру. Сара родилась в Индии, стране невиданных богатств и волшебства. Она жила, как настоящая принцесса, в роскоши, окруженная заботой и любовью. И, как полагается принцессе, даже в самые тёмные времена Сара сохранила доброе сердце и веру в чудеса, которые помогали ей отважно переносить все невзгоды. Чистая, светлая душа девочки, умение любить и сострадать сотворили настоящее волшебство и изменили жизнь Сары к лучшему.

НЕСТЕРИНА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. Девочка-тайна : [повесть : для среднего школьного возраста] / Елена Нестерина. - Москва : АСТ, 2024. - 221, [2] с. - (Мой первый роман). - 6+. - ISBN 978-5-17-149537-4. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Елена Нестерина - детский писатель и драматург, её пьесы не раз становились лауреатами международных конкурсов. В новой повести Е. Нестериной "Девочка-тайна" очень необычная героиня. В первые же дни учёбы в новом классе Гликерия поразила всех. Мало того, что она одевается непривычно, ведёт себя независимо, так ещё и поставила на место главного красавца и хулигана школы. До неё никто не решался ему перечить, даже мальчишки.
Оле Соколовой очень хочется разгадать тайну Гликерии. В этом ей вызвался помочь близкий друг и одноклассник Сашка. Оля давно в него влюблена. Останется Сашка верен своей давней подруге или попадёт под готическое обаяние девочки-тайны?
ПРОЙСЛЕР ОТФРИД. Веселые проделки разбойника Хотценплотца : [для среднего школьного возраста] / Отфрид Пройслер ; иллюстрации Франца Йозефа Триппа ; [перевод с немецкого Юрия Коринца]. - Москва : Эксмо, 2022. - 116, [2] с. : ил. - (Хорошие книги для счастливого детства). - На обл., корешке и тит. л.: #эксмодетство. - 12+. - ISBN 978-5-04-163810-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Касперль, Сеппель, Димпфельмозер и, конечно, Хотцеплотц!!!
Известный разбойник Хотценплотц снова сбежал! И где теперь его искать?! Офицер полиции Димпфельмозер снова нуждается в помощи. Поэтому за дело вновь берутся близкие друзья Касперль и Сеппель - ведь им не в первой ловить дерзкого преступника. Но вот незадача: пока ребята были заняты его поисками, кто-то в форме офицера полиции Димпфельмозера похитил бабушку и увёз в неизвестном направлении… Ну погоди, разбойник Хотценплотц! Ты обязательно будешь пойман и в этот раз!
Отфрид Пройслер - известный немецкий писатель, признанный классик детской литературы, чьи книги переведены на 55 языков мира, а их суммарный тираж достигает 55 миллионов экземпляров!!!
Немецкий сказочник.
Нет в России ребёнка, который не знал бы его волшебных историй о Маленькой Бабе Яге, Маленьком Водяном и Маленьком Привидении! Но на трёх сказках приключения и чудеса не заканчиваются!
Познакомьтесь с неразлучными и отважными друзьями Касперлем и Сеппелем, мудрой бабушкой Касперля, с уважаемым офицером полиции Димпфельмозером и, конечно же, с грозой всей округи - неуловимым и смешным разбойником Хотценплотцем!
Для среднего школьного возраста.

СВЕСТЕН НИКА. На живую нитку : рассказы и повести : для среднего и старшего школьного возраста / Ника Свестен ; иллюстрации С. Билаловой. - Москва : Детская литература, 2022. - 190, [9] с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - Настоящее имя автора: Исаева Вероника Александровна. - Содерж.: Певчий ; Пассажирка. - 12+. - ISBN 978-5-08-006791-4. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Герой повести, Ваня, заперт в скорлупе своей болезни - эпилепсии. Строгое расписание позволяет держать приступы под контролем. Но какая же эта жизнь! Как хотелось бы быть обыкновенным парнем! К сожалению, выбора нет… Или Ваня просто боится открыть кому-нибудь свою дверь? После знакомства с Надей Ванина жизнь утрачивает стабильность, каждый день становится бусиной, нанизываемой На живую нитку. Никто не знает, что ждет их впереди. Но это и есть Жизнь. Как сложно героям этой книги выйти за пределы привычного, уже изученного мира! И Лука ("Певчий"), и Женя ("Пассажирка") отстаивают право на выбор своего жизненного пути. Лука - порывая с привычным миром хоровой капеллы для мальчиков, а Женя - находя новый смысл своей однообразной жизни на тихой, затерянной в степи железнодорожной станции.
СВИФТ ДЖОНАТАН. Путешествия Гулливера : роман : [для среднего школьного возраста] / Дж. Свифт ; пересказ Т. Габбе ; художник Д. Гордеев. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 157, [2] с., [8] л. ил. : ил. - (Внеклассное чтение). - 6+. - ISBN 978-5-353-07707-7. - Текст : непосредственный.
ХЛ;

СОРОСЯК КАРЛИ. Меня зовут Космо : [для среднего школьного возраста] / Карли Соросяк ; [перевод с английского А. В. Захарова]. - Москва : Эксмо, 2020. - 333, [1] с. - (Книга-событие). - 12+. - ISBN 978-5-04-111435-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Пёс Космо - лучший друг Макса, верный защитник его сестры, 8-летней Эммалины, и надежный помощник родителей ребят. Однако в последнее время Космо стал всё чаще заставать Макса в слезах, потому что родители Макса и Эммалин часто ссорятся. Поэтому Космо, не жалея своих старых суставов (ему целых 13 лет!) берётся восстановить мир и согласие в семье. И даже вкуснейшая индейка на праздничном столе не собьёт его с выбранного пути!

ФРАЙТ АЛЕКС. Скандинавские мифы : для детей : [для среднего школьного возраста / Алекс Фрайт, Луи Стоуэлл ; иллюстрации Маттео Пинчелли ; перевод Елены Богатыренко]. - Москва : АСТ, Вилли Винки, 2022. - 76, [3] с. : ил. - (Мифы для детей). - На обл. и тит. л. авт. не указаны. - 6+. - ISBN 978-5-17-153876-7. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Скандинавские мифы прочно вросли в современную культуру. В их сюжетах черпал вдохновение Дж. Р. Р. Толкиен, написавший историю Средиземья, Рихард Вагнер сочинил по ним цикл опер "Кольцо нибелунгов", а легендарный Стэн Ли увековечил их мотивы в супергеройских комиксах, по которым снято столько фильмов. Но всё это – только фантазии на тему. Настоящие секреты скандинавских героев и богов хранятся в первоисточниках – "Старшей Эдде", "Младшей Эдде" и "Саге о Вёльсунгах". Главные из них просто и увлекательно пересказаны и блестяще проиллюстрированы в этой книге. Зачем скандинавам два царства мёртвых - Нифельхейм и Хельхейм? Куда уходит своими корнями дерево Иггдрасиль? Кому отдал свой глаз бог Один? Откуда взялся знаменитый молот Тора, Мьёлльнир? Как началась война богов и что такое Рагнарёк? Обо всём этом можно узнать именно здесь!
Воскресенье, 19 Май 2024 07:08
Книжные новинки 2024. Весна. Детская литература. Художественная 0+

ГЕРАСИМОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА. Лунный пирог : [для чтения взрослыми детям] / Дарья Герасимова. - Санкт-Петербург : Качели, 2019. - 63 с. : ил. - (Веселые стихи). - 0+. - ISBN 978-5-907076-15-0. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Город осенний озяб и продрог.
Лист пролетает оранжевой птицей.
Катится по небу Лунный пирог,
Пахнущий грушами, мёдом, корицей...
Это в небесной кухне колдуют над пирогами волшебные повара. Какой подать завтра? Черничный? Или с творогом и изюмом?
В добрых, задорных и почти вкусных стихах Дарьи Герасимовой происходит всякая небывальщина: зонтик превращается в птеродактиля, крокодилы живут на деревьях, а весенний заяц летит в облаках и играет на дудочке. Герои стихотворений приглашают всех к себе в гости - повеселиться, подурачиться и просто хорошо провести время!

ДЕЙКСТРА АРОН. Рыцарь Ник, гроза драконов : для чтения взрослыми детям / Арон Дейкстра ; перевод с нидерландского Альбины Гурьяновой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [25] с. : ил. - (МИФ детство). - 0+. - ISBN 978-5-00117-422-6. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Дракон Роголом многие годы только и делает, что дремлет на вершине горы. Как видно из его имени, рог он сломал когда-то в прошлом, но теперь он старый и совсем не хочет сражаться. Каждый раз он под разными предлогами отказывается от боя с отважным рыцарем по имени Ник. Ник же наоборот очень хочет сразиться с драконом и победить его. Поэтому выполняет все условия Роголома, какими бы трудными и странными они не были... Но потом он понимает, насколько это бессмысленно и скучно. Да и зачем сражаться?
В книге нет прекрасной принцессы, которую рыцарь должен спасти. Да и жителям деревушки ничего не угрожает, хотя они и рады избавиться от потенциально опасного Роголома. Есть лишь желание маленького рыцаря, его давняя мечта, которая должны сбыться, но не так, как он предполагал. Он одолеет дракона не великанским мечом и огромным щитом, а с помощью ума и азарта.
Необычный взгляд на классический сюжет о поединке отважного рыцаря и ужасного дракона. Книга поднимает много важных вопросов - о упорстве, упрямстве, мечтах, о цели и причинах ее добиваться, о том, что иногда уступить - значит больше, чем добиться своего. О том, что обычное и привычное иногда оказывается сильнее и лучше, чем далекое и неизвестное.

ЕРОФЕЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коза под зонтиком : стихи для детей / Михаил Ерофеев ; художник Алла Высотская. - 2-е изд. - [Б. м.] : Ерофеев Михаил Анатольевич, 2023. - 39, [1] с. : ил. - Автограф автора. - 0+. - ISBN 978-5-604-0946-9-3. - Текст : непосредственный.
ХЛ;

ЕРОФЕЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. Стихи на воде. "Детство" : [стихи для детей : для чтения взрослыми детям] / Михаил Ерофеев ; художник Анна Иванова. - [Б. м.] : Ерофеев Михаил Анатольевич, 2023. - 31, [1] с. : ил. - 0+. - ISBN 978-5-6040946-2-4. - Текст : непосредственный.
ОИ;
Книга стихов для детей. Рисунки для книги выполнены художником Анной Ивановой в технике "Эбру". Большой формат книги позволяет продемонстрировать читателю всю красоту художественного стиля "Эбру", а крупный шрифт поможет ребенку прочесть эту книгу самостоятельно.

КАМЫШЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. Лесовичок и Новый год : [сказка : для детей дошкольного возраста] / Ольга Камышева ; художник Татьяна Лишаева. - Москва : Стрекоза, 2023. - 39, [8] с. : ил. - (Детская художественная литература). - 0+. - ISBN 978-5-9951-5326-9. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Много дел у старичка-лесовичка зимой! Надо птичек подкормить, зверюшек обогреть да новогоднюю елочку для них нарядить. Но разыгралась под Новый год пурга и раскидала все украшения с елочки по лесу. Что же делать? Встал Лесовичок на лыжи и отправился на поиски. Набедокурила пурга в лесу! Пришлось старичку зайчонка к маме проводить, мышке вход в норку раскопать, совенку дорогу до гнезда показать. Всем помог Лесовичок, а украшения так и не нашел. Неужели зверюшки останутся без праздничной елочки?

ОРЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. В голове цветные мысли : стихи / Анастасия Орлова ; художник Ирина Капралова. - Москва : Время, 2020. - 91, [3] с. : ил. - (Время - детство!). - 0+. - ISBN 978-5-9691-1912-3. - Текст : непосредственный.
ХЛ;

РУСИНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Мой дедушка Фей / Евгения Русинова ; иллюстрации Кристины Коноваловой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 39 с. : ил. - (Открой книгу). - 0+. - ISBN 978-5-222-33442-3. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
У многодетной семьи Негорюевых на пороге однажды возник странный старичок, который стал для них настоящей феей-крёстной. Он с лёгкостью успокоил неугомонную малышку Анютку, помог среднему брату Пашке найти лучшего друга, а старшему — попасть в основной состав футбольной команды. Благодаря ему сестричка Наташа попадает на сказочный новогодний бал, а в семье наступает мир и покой. Детям кажется, что дедушка Фей — настоящий волшебник. Но на самом деле мудрый старичок не делает ничего особенного: он действует хитростью, помогает советами, в нужный момент сочувствует и поддерживает.

Самые лучшие добрые сказки : [для дошкольного возраста / пересказ Ирины Котовской] ; иллюстрации Анастасии Басюбиной, Екатерины и Елены Здорновых. - Москва : Эксмо, 2022. - 135 с. : ил. - На обл., корешке и тит. л.: #эксмодетство. - Содерж.: Пузырь, соломинка и лапоть ; Глиняный сынок ; Кощей Бессмертный и др. - 0+. - ISBN 978-5-04-099987-3. - Текст : непосредственный.
ХЛ;

СУКГОЕВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА. Шалость не удалась, или История о том, как я стал послушным / Анастасия Сукгоева ; иллюстратор Евгения Радостева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 46, [1] с. : ил. - (Сказочное детство). - 0+. - ISBN 978-5-222-36556-4. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Котёнок Ёшка ни дня не может прожить без шалостей. Больше всего ему хочется напакостить старшему брату. Ведь Зефирчика всё время хвалят и ставят в пример, а Ёшку то и дело ругают. И есть за что: игра с младшей сестрой закончилась потопом, а обед превратился в драку. Все Ёшкины шалости оборачиваются против него самого.
Непослушный котёнок знакомится с мудрым червячком, который живёт в саду, в яблочном домике. Червячок Абрикосик становится добрым другом котёнка. Он обещает поведать Ёшке свою самую большую тайну, если котёнок сможет целый день прожить без шалостей. Ёшка учится быть послушным и вежливым. Как же это оказалось нелегко! Но котёнок с удивлением замечает, что добрые дела совершать намного приятнее, чем шалить.

Энчантималс. Хранители чудес : для детей дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям / редактор: Т. Пименова. - Москва : Лев, 2021. - 78, [2] с. : ил. - (Книжная коллекция) (Энчантималс. Волшебные подружки и их любимые зверюшки). - 0+. - ISBN 978-5-4471-7031-8. - Текст : непосредственный.
ХЛ;
Вы держите в руках чудесную книгу, созданную по мотивам анимационного сериала "Энчантималс". Только новые истории о волшебных подружках и их любимых зверюшках! Почитайте вместе с ребенком, всмотритесь в яркие иллюстрации, и вы заметите, как просыпается в малыше интерес к книгам.
Любовь к чтению - бесценный подарок, и в ваших силах сделать ребёнка счастливым! Настройтесь на самые приятные впечатления и проведите незабываемый вечер в кругу семьи!
Воскресенье, 19 Май 2024 06:58
Книжные новинки 2024. Весна. Детская литература. Познавательная

ВАСНЕЦОВА АЛЕНА. Маяки : помощники капитанов : [для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста] / Алёна Васнецова ; художник Екатерина Колесникова. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 21, [3] с. : ил. - (Настя и Никита ; вып. 165). - 0+. - ISBN 978-5-906788-64-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Всем известно, что свет маяка указывает путь кораблям. Но какими бывают маяки? Из чего их строят? Откуда берётся свет? Что у маяка внутри и почему он мигает? Чем занимается смотритель маяка и какие маяки самые знаменитые в мире? Обо всём мы узнаем из этой книжки.

Животные России : [для среднего школьного возраста / авт.-сост. И. В. Травина ; художники: В. В. Бастрыкин и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2012. - 95 с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-05747-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Иллюстрированная энциклопедия для детей начального и среднего школьного возраста приглашает в увлекательную прогулку по разным уголкам нашей необъятной страны. Читатель познакомится с обитателями лесов, степей и гор, озер, морей и океанов, холодной Арктики и бескрайнего Севера: волком и лисицей, бобрами и совами, бурыми и белыми медведями, амурским тигром и снежным барсом, горным козлом и северным оленем, тюленями, китами и многими другими.

КОСБИ АРИЭЛЬ. Твоя волшебная сила : 40 ритуалов, чтобы наполнить жизнь чудесами : [для детей среднего школьного возраста] / Ариэль Косби ; иллюстрации Ольги Баумерт ; перевод Марины Каленевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 143 с. : ил. - На обл. и корешке: МИФ Детство. - Библиогр.: с. 142. - 6+. - ISBN 978-5-00169-780-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Этот сборник магических обрядов и заклинаний в легкой и понятной форме научит детей полезным жизненным навыкам: уверенности в себе, умению ставить цели и достигать их, справляться с негативными эмоциями и тревогой, выстраивать отношения с собой, друзьями и родными. Незаметно для себя юные волшебники и волшебницы привыкнут проводить больше времени в общении с природой и научатся замечать ее красоту. Магия в книге совершенно безопасна: ритуалы составлены на основе известных психологических, телесных и дыхательных практик, описаны просто и похожи на игры; заклинания опираются на принципы позитивного мышления; зелья из растений и душистых приправ вкусны и полезны для здоровья. Ингредиенты для колдовства - самые простые и найдутся в каждом доме. Пусть колдуют дома и на улице, с друзьями и в одиночку! Пусть радуются жизни и проявляют весь свой творческий потенциал, а книга поможет им в этом.
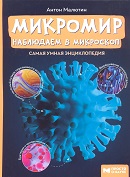
МАЛЮТИН АНТОН ОЛЕГОВИЧ. Микромир : наблюдаем в микроскоп : [самая умная энциклопедия] / Антон Малютин. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 112 с. : ил. - (Просто о науке). - 0+. - ISBN 978-5-222-40296-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;

СКИБА ТАМАРА ВИКТОРОВНА. Анатомия человека : как устроено наше тело / Т. Скиба. - Ростов-на-Дону : Владис, 2020. - 126, [1] с. : ил. - Авт. на обл. не указан. - 12+. - ISBN 978-5-9567-2713-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
"Тело человека" - это книга о нашем совершенном организме, состоящем из множества клеток, сложных органов и систем. На страницах нашей энциклопедии вы узнаете, сколько в нашем теле мышц и костей, как мы дышим и двигаемся, почему человеку обязательно нужно спать, для чего сердце качает кровь и как работает наш желудок.

ТРЭН КРИСТИНА. Школа рисования : советы, приемы и упражнения для всех, кто любит рисовать : [для среднего школьного возраста] / Кристина Трэн ; [перевод с немецкого Надежды Край]. - Москва : Эксмо, 2019. - 52, [1] с. : ил. - 0+. - ISBN 978-5-04-095899-3. - Текст : непосредственный.
ОИ;
В этой книге немецкий художник и иллюстратор Кристина Трэн, опираясь на свой многолетний опыт, делится секретами мастерства и дает множество полезных советов начинающим художникам. Выполняя практические упражнения, вы научитесь рисовать простыми, цветными и акварельными карандашами, акварельными и акриловыми красками. Шаг за шагом вы познакомитесь с различными приёмами, которые помогут вам легко воплотить собственные творческие замыслы на бумаге или холсте! С этой книгой вы овладеете основами рисования и освоите: - базовые формы, - изображение животных и людей, - пейзажи и натюрморты, - правила штриховки, - свет и тень, - смешивание цветов, - законы перспективы и композиции, - каллиграфию. Доставайте бумагу, карандаши и краски - и за дело!
Воскресенье, 19 Май 2024 06:42
Книжные новинки 2024. Весна. Биографии, мемуары
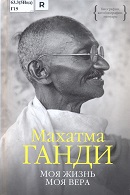
ГАНДИ МОХАНДАС КАРАМЧАНД. Моя жизнь ; Моя вера / Махатма Ганди ; перевод с английского В. Н. Ахтырской, А. М. Вязьминой, Е. Г. Панфилова. - Москва : КоЛибри, 2018. - 731, [1] с., [8] л. ил. : ил. - (Биографии, автобиографии, мемуары). - 16+. - ISBN 978-5-389-09689-9. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Мохандас Ганди происходил из довольно зажиточной семьи, принадлежащей к уважаемой касте торговцев. После его смерти осталась пара сандалий, очки да посох. Всю свою жизнь Ганди посвятил самоограничению и служению обществу, неустанно выступая против насилия и религиозных распрей. За свои заслуги он получил титул Махатма - "Великая душа".
"Моя жизнь" Махатмы Ганди - одна из популярнейших автобиографий ХХ века, история жизни великого мудреца и опытного, но чистого сердцем политика, история освобождения Индии и рассказ о духовных исканиях. В книгу вошли также трактаты "Моя вера" и "Ключ к здоровью", в которых Ганди рассуждает о существующих в мире религиях, о вегетарианстве и нравственном образе жизни.

ДУГЛАС ДЖОН ЭДВАРД. Закон и беспорядок : легендарный профайлер ФБР об изнанке своей профессии / Джон Дуглас, Марк Олшейкер ; перевод с английского С. С. Орленко. - Москва : Эксмо, 2023. - 318, [1] с. - (Охотники за разумом. Настоящие расследования профайлеров). - 16+. - ISBN 978-5-04-155205-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Легендарный профайлер ФБР Джон Дуглас впервые откровенно рассказывает об изнанке своей 25-летней карьеры "охотника за разумом".
Джон Дуглас — легендарный профайлер ФБР и прототип детектива Джека Кроуфорда в "Молчании ягнят". Никто лучше него не знает, как нужно вычислять и ловить особо опасных преступников и серийных убийц. Об этом он рассказал в своих книгах, ставших мировыми бестселлерами.
Но после выхода на пенсию Джон Дуглас перестал быть связанным профессиональной этикой с правоохранительной системой США. Впервые и без купюр он говорит о том, как не нужно ловить убийц.
Не боясь критиковать своих коллег, Дуглас описывает самые спорные дела, с которыми лично он имел дело. Дела, где преступники остались на свободе, а невиновные люди отправились на электрический стул. А также — то, как новаторские следственные методики позволили ему восстановить справедливость там, где это было возможно.
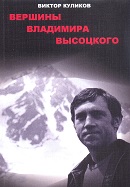
КУЛИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Вершины Владимира Высоцкого / Виктор Куликов. - Тольятти : [б. и.], 2024. - 200 с. : ил. - Отпечатано в типографии ООО "Ричмарк". - На тит. л.: Музей В. С. Высоцкого в Тольятти. - Дарственная надпись автора. - Текст : непосредственный.
КХ; ОИ;
В книге собраны воспоминания участников и очевидцев съемок художественного фильма "Вертикаль", посвященного группе альпинистов, идущих на штурм непокоренной кавказской вершины.

ПРИДО СЬЮ. Жизнь Фридриха Ницше / Сью Придо ; перевод с английского А. Коробейникова. - Москва : КоЛибри, 2020. - 396, [1] с., [4] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 392-395. - 18+. - ISBN 978-5-389-12346-5. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Фридрих Ницше — одна из самых загадочных фигур в философии; пожалуй, самый непонятый мыслитель в истории, предвидевший проблемы нашего времени и искавший для них решения. Его идеи о сверхчеловеке, смерти Бога, воле к власти и рабской морали поставили под сомнение принятые в XIX–XX вв. общественные нормы и модели политических отношений и оказали значительное влияние на западную культуру. Но что большинство из нас знает о самом Ницше? Каким был философ, которым восхищались Альбер Камю, Айн Рэнд, Мартин Бубер?
Ницше писал, что философия сама по себе автобиографична, и в яркой, убедительной, разрушающей мифы биографии, созданной признанным мастером жанра Сью Придо, открывается мир этого блестящего, эксцентричного мыслителя и отягощенного множеством проблем человека. Внимание акцентируется на событиях и людях, которые повлияли на жизнь и творчество великого философа (Рихард и Козима Вагнер, Лу Саломе — роковая женщина, разбившая ему сердце, сестра Элизабет). Благочестивое христианское воспитание, глубокие переживания, связанные с загадочной смертью отца, преподавательская деятельность, одинокое времяпрепровождение высоко в горах и печальное погружение в безумие — рассматривая ключевые этапы биографии Ницше и анализируя его важнейшие произведения, автор ярко воссоздает интеллектуальный и эмоциональный аспекты жизни философа.
Воскресенье, 19 Май 2024 04:39
Книжные новинки 2024. Весна. Бизнес и предпринимательство

ГОЛДРАТТ ЭЛИЯХУ. Цель: процесс непрерывного улучшения / Элияху М. Голдратт, Джефф Кокс ; перевод с английского Е. Федурко. - Специальное издание. - Минск : Попурри, 2021. - 397, [1] с. - В формате бизнес-романа. - Содерж.: Стоя на плечах гигантов. - 16+. - ISBN 978-985-15-4809-1. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Человек, столкнувшийся при ведении личного бизнеса с какой-либо проблемой и понуждаемый ею мыслить логически, спокойно, поступательно, без авантюрно-истерических перескоков и разрывов, должен иметь способность видеть причинно-следственные связи между действиями и результатами и знать базовые принципы достижения успехов.

ГОЛЬДШТЕЙН ДЖЕЙКОБ. Деньги : увлекательная история самого почитаемого и проклинаемого изобретения человечества / Джейкоб Гольдштейн ; [перевод с английского Т. Кудашевой]. - Москва : Эксмо, БОМБОРА, 2022. - 251 с. - (Экономика для всех. Разбираешься в экономике - повышаешь качество жизни!). - 16+. - ISBN 978-5-04-155028-8. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Появление денег — куда более запутанная, интригующая и кровавая история, в которой замешан Санта-Клаус и убийства.
Узнать, как на самом деле возникли деньги — лучший способ понять их природу. Можно ли, напечатав триллионы новых купюр, победить инфляцию? Удастся ли с помощью криптовалют создать свободный рынок денег, прообраз которого когда-то существовал в США? Что станет валютой будущего?
Эта книга — остросюжетная летопись самых гениальных, скандальных и безумных экспериментов в истории денег. Вы отправитесь в путь, который проделали денежные знаки от бартера и первой бумажной расписки до квазиденег и криптовалюты. От британских кузнецов, заменявших первых банкиров, до луддитов, проигравших войну машинам. Джейкоб Гольдштейн предлагает разобраться, как мы стали "заложниками" существующей финансовой системы и какое будущее нас ждет.

ГРЭМ БЕНДЖАМИН. Разумный инвестор : полное руководство по стоимостному инвестированию : перевод с английского / Бенджамин Грэм ; дополнения и комментарии Джейсона Цвейга. - 4-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 567 с. - 0+. - ISBN 978-5-9614-6292-0. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Мировой бестселлер, выдержавший множество переизданий по всему миру, книга Бенджамина Грэма (1894-1976) является уникальным пособием по выстраиванию инвестиционной политики. Автор, всемирно известный экономист и авторитетный профессиональный инвестор, главное внимание уделяет не анализу ценных бумаг, а принципам инвестирования, предлагая действовать разумно и осторожно независимо от поведения фондового рынка. Бенджамин Грэм показывает, как много возможностей открывается перед инвестором, ведущим себя, как расчетливый бизнесмен. Разработанные автором подходы к инвестированию - такие как стоимостное инвестирование по оборотным активам, предпринимательское и защищенное стоимостное инвестирование - это бесценные инструменты, безотказно действующие даже в условиях самого капризного рынка.
Бенджамин Грэм, которого признают своим учителем ведущие мировые инвесторы, вооружает читателей знаниями о том, что в действительности происходит с различными типами облигаций и акций при колебаниях рынка, давая поистине бесценные советы, как максимально удачно инвестировать свои средства в ценные бумаги.

КОХ РИЧАРД. Сила упрощения : ключ к достижению феноменального рывка в бизнесе и карьере / Ричард Кох ; перевод Е. Деревянко. - Москва : Э, 2017. - 408, [1] с. - 16+. - ISBN 978-5-04-089751-3. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Упрощение — вот ключ к выдающемуся успеху в карьере и бизнесе. Apple, McDonald’s, IKEA и другие легендарные бренды в свое время сделали ставку на упрощение и не ошиблись. Авторы этой книги предлагают две беспроигрышные модели упрощения, которые в ста процентах случаев приводят к резкому рывку в развитии компании. Ричард Кох, автор культового бестселлера "Принцип 80/20", и Грег Локвуд анализируют механизмы преобразований, предпринятых руководителями гиперуспешных компаний, и рассказывают, как с помощью предложенных инструментов вывести свой бизнес на новый уровень.

СЬЮЭЛЛ КАРЛ. Клиенты на всю жизнь / Карл Сьюэлл ; перевод с английского Михаила Иванова, и Михаила Фербера. - 26-е изд. - Москва : МИФ, 2024. - 214, [3] с. - (Белая серия. Классика бизнеса). - ISBN 978-5-00195-190-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
Карл Сьюэлл - успешный бизнесмен, которому удалось поднять продажи до невиданных высот благодаря привлечению и удержанию покупателей.
Его книга являет собой практическое руководство по работе с клиентами (а попутно и по организации работы предприятия, маркетингу и мерчендайзингу). Сьюэлл рекомендует всем делать ставку на постоянных клиентов, поскольку настрой на разовые продажи делает бизнес неустойчивым. И убедительно доказывает: чтобы удержать клиента, необходимо пересмотреть свои взгляды не только на обслуживание как таковое, но и на организацию работы, оплату труда, чистоту помещений, дизайн ландшафта и многие другие мелочи.
Книга будет полезна как тем, кто только начинает свой бизнес, так и тем, кто ищет пути его дальнейшего расширения.

ТРАМП ДОНАЛЬД ДЖ. Как стать богатым / Дональд Трамп ; при участии Мередит Макивер ; перевод с английского Е. Китаевой. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 283 с. : ил. - (Альпина. Бизнес). - 0+. - ISBN 978-5-9614-2832-2. - Текст : непосредственный.
ОЛ;
В книге риэлтор-миллиардер, автор многих бестселлеров и телеведущий Дональд Дж. Трамп открывает секреты своего успеха. Он поведает о том, как правильно вкладывать деньги, производить впечатление на руководителя и получать повышение, успешно управлять бизнесом, нанимать, стимулировать и увольнять сотрудников, вести переговоры, поддерживать доброе имя своей торговой марки, мыслить по-крупному и жить на все сто.
Книга полна деловых советов и житейской мудрости и рассказывает о том, как легальным образом создаются огромные состояния и как управлять первоклассным бизнесом.










