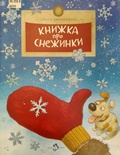Olga
Виртуальная выставка. Лада "Нива" (карта)
Виртуальная выставка. Лада "Нива" (глобус)
Юбилейная классика
Представляем раздел, посвящённый юбилеям классики отечественной и мировой литературы.

3 октября [21 сентября по старому стилю] 2025 года исполняется 130 лет Сергею Александровичу Есенину. Сергей Есенин – возможно, самый любимый в народе поэт России. За тридцать лет в поэзии и в судьбе он охватил всё значимое, вместил несовместимое. Сначала – одаренный юноша, крестьянский сын, рано ставший книгочеем и сочинявший изысканные стихи. Чуть позже – столичная богемная сенсация, в стихах – дуновения мистических течений и березовая Русь. А потом – революционная буря. Бунтарь и тонкий аналитик, сын своей эпохи, певец Руси, хулиган и автор исповедальных строк. Его светлые, прозрачные строфы, пронизанные внутренней красотой и удивительными образами, сразу западают в душу, остаются там навсегда. Его дар ценили не только простые люди, но и корифеи поэзии – Марина Цветаева, Александр Блок, Борис Пастернак. Это уникальный пример всеобщего признания в русской литературе. В юбилей Сергея Есенина – о разнообразии творчества великого поэта.
И не жалость – мало жил
И не горечь – мало дал, –
Много жил – кто в наши жил
Дни, все дал – кто песню дал
М. Цветаева памяти Есенина, январь 1926 г.
*Сергей Есенин : фотовыставка : [комплект репродукций] / автор: Наумов Е. - Ленинград : Художник РСФСР, 1987. - 1 обл. ([37] отд. л.). - С229.
 1 мая 2024 года – знаменательная литературная дата - 100 лет со дня рождения писателя и драматурга Виктора Петровича Астафьева.
1 мая 2024 года – знаменательная литературная дата - 100 лет со дня рождения писателя и драматурга Виктора Петровича Астафьева.
Судьба Астафьева, как и многих его современников, была непроста. Виктор Петрович всегда старался придерживаться принципа жизненной правды. Он хотел быть максимально честным с читателем и поэтому писал о том, что знал, что пропустил через себя.
Писатель, драматург, публицист, сценарист, он был одним из немногих писателей, кого называли классиком при жизни. Автор 297 книг. Еще при жизни его произведения были переведены 99 раз на 22 языка в 28 странах.
Пока человек жив – он должен и обязан творить добро, и чем больше он его сотворит, чем яростней будет устремлен к нему, тем меньше места на Земле останется злу.
200 лет назад - 30 октября по старому (11 ноября по новому стилю) 1821 года - в Москве, родился Федор Михайлович Достоевский. В мир пришел писатель, которому было предназначено стать символом самой великой загадки и глубины русской души. Вращая глобус в любом направлении, вы не найдете места на земле, где не знали бы Достоевского. Знают, потому что никто до него и никто после - не погружался столь глубоко в недра человеческой души, открывая, высвечивая все её страдания, пороки и искания. Знают, потому что именно его герои и их духовные пути становятся ключом к пониманию самой большой страны и ее народа. Знают, потому что он сложен и невыразимо прекрасен. Достоевского можно читать всю жизнь, совершенствуя понимание мира, людей, собственной души и судьбы. Большие юбилеи великих людей - это всегда вехи. Точки отсчета, шаги истории, делая которые, человечество получает возможность оглянуться на пройденный путь, осознать свои приобретения и изменения. 200 лет Достоевскому. 200 лет назад… А что же сегодня? Сегодня - ежедневно по всем миру тысячи читателей берут в руки книги Федора Михайловича. Сегодня - мы делимся с вами тем, что собрали и создали в этот юбилейный год, тем, что интересно и важно услышать, понять, прочесть о нем сегодня.
…Книги из фонда Библиотеки КЦ «Автоград» - Достоевский и о Достоевском на русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском языках! Есть здесь и поистине редкие издания из знаменитой Жестковской коллекции эмигрантской литературы, не так давно возвращенной на Родину.
…Интернет-ресурсы о Достоевском, среди которых «Коллекция национальной электронной библиотеки» – музеи, экранизации, фонды Национальной и Президентской библиотек.
…Наш собственный видео-цикл «200 FM», в котором выпуск за выпуском мы проживали вместе с великим писателем витки его творческой и личной судьбы!
Наш собственный виртуальный мир Федора Михайловича Достоевского сегодня на сайте Библиотеки и на вашем экране! Добро пожаловать! И до встречи у книжных полок!..
Выставки
Приглашаем познакомится с фондами библиотеки, раскрытыми с помощью виртуальных выставок.
Цикл виртуальных, интерактивных книжных выставок, посвящённых специализированным войскам Великой Отечественной войны
 «Ставрополь и ставропольчане в истории Великой Отечетственной войны»: выставка с дополненной реальностью
«Ставрополь и ставропольчане в истории Великой Отечетственной войны»: выставка с дополненной реальностью
Интерактивная фотовыставка, которая при помощи QR-кодов рассказывает современным людям подлинную историю города Ставрополя в военные годы.
В выставке используются материалы Тольяттинского краеведческого музея, Тольяттинского архива и фондов Библиотеки «Культурного Центра "Автоград"».
 Зал отраслевой литературы Библиотеки КЦ «Автоград» устраивает своим гостям «дипломатический прием»!
Зал отраслевой литературы Библиотеки КЦ «Автоград» устраивает своим гостям «дипломатический прием»!
Книжная выставка «Дипломатия как наука и искусство» - настоящий портал в мировую историю. В учебниках дипломатию нередко определяют как «науку о внешних сношениях» и «искусство переговоров».
Герои выставки – это гении тончайшей из наук, интеллектуалы, психологи и политики, на чьем политическом чутье и слове держался и строился мир. С Древней Руси до современной России, от Бисмарка и кардинала Ришелье до Александра Горчакова и Евгения Примакова разворачивается увлекательное историческое путешествие.
Прикоснитесь к креслу и «зазвучат» голоса самих прославленных дипломатов: серии «Россия в мемуарах дипломатов» и «Из истории дипломатии» собрали личные воспоминания и дневники лучших представителей этой удивительной профессии.
 Зал литературы на иностранных языках приглашает вас познакомиться с «Коллекцией итальянской литературы». Это книги по страноведению, учебные издания, художественная литература.
Зал литературы на иностранных языках приглашает вас познакомиться с «Коллекцией итальянской литературы». Это книги по страноведению, учебные издания, художественная литература.
Придя в библиотеку, вы сможете приобщиться к итальянской культуре, языку и через аутентичные литературные источники.
Представляем вашему вниманию часть изданий нашей коллекции. Вы познакомитесь с историей Италии и ее знаменитыми городами. Мы приглашаем в увлекательное путешествие по страницам книг. Вы совершите прогулку по улочкам Венеции и Флоренции, увидите древний Колизей, откроете для себя удивительные творения великих итальянских мастеров.
 Зачем современному человеку ремесло? В чем смысл работы руками в эпоху массового потребления и доступности товаров? Ответы на эти вопросы ищет и находит Зал литературы по искусству Библиотеки КЦ «Автоград» в материалах виртуальной выставки «Добрых рук мастерство».
Зачем современному человеку ремесло? В чем смысл работы руками в эпоху массового потребления и доступности товаров? Ответы на эти вопросы ищет и находит Зал литературы по искусству Библиотеки КЦ «Автоград» в материалах виртуальной выставки «Добрых рук мастерство».
Как приятно открывать для себя тепло предметов, сделанных своими руками, радоваться в постижении мастерства. Ремесло – это способ сохранить и передать традиции. Не всем суждено стать Робинзонами и обустраивать с нуля быт, но каждому из нас доступно преобразовать мир вокруг себя, прикасаясь к материалам, с помощью которых творили свой окружающий мир наши предки.
Зал литературы по искусству представляет виртуальную книжную выставку «Добрых рук мастерство». Здесь вы найдете удивительные рукотворные предметы народного быта, за которыми открываются сами ремесла и книги о них! Книги, которые напитают смыслами и научат новому.
Эта выставка получилась брутальной и какой-то нежной одновременно… Немножко суровой, с юмором и вызовом. И в то же время, пронзительной, даже кричащей о самом важном. Зал отраслевой литературы Библиотеки КЦ «Автоград» собрал особенную экспозицию книг «Отец – молодец» - об отцовстве, о том самом слове, которое с развитием цивилизации стало вторым после слова «мама», о смысле, значении и трудностях отцовства.
Посмотреть выставку



5 апреля легенде отечественного автомобилестроения, самой известной модели за всю историю советского и постсоветского периода - автомобилю ВАЗ-2121 «НИВА» исполняется 45 лет. Именно 45 лет назад был создан автомобиль с оригинальным, свежим и гармоничным дизайном, ставший первым вазовским внедорожником, который поднимался на Эверест, рассекал пески Сахары...
Приглашаем совершить мировое ралли, вместе с интерактивной виртуальной выставкой «По дорогам и без дорог».
 К новому 2022 году, библиотека подобрала для вас самые праздничные издания из фонда редких книг и приглашает заглянуть в 12 ящичков новогоднего каталога, по числу месяцев в году, в которых вы найдёте историю и обзор книг по выбранной вами теме!
К новому 2022 году, библиотека подобрала для вас самые праздничные издания из фонда редких книг и приглашает заглянуть в 12 ящичков новогоднего каталога, по числу месяцев в году, в которых вы найдёте историю и обзор книг по выбранной вами теме!
help-agescategory
Возрастная категория
Справочник для Мероприятий - Все возрастные категории - Дети до 14 лет включительно (1 - 14) - Молодёжь, юношество от 15 до 30 (15 - 30) - Прочие, от 31 г. (31 - 99)
В маске Читатели соответствующая блокировка на заполнении поля "дата рождения" (1 - 99)
Генкри О. Дары волхвов
Один доллар и восемьдесят семь центов! И это всё! Из них шестьдесят центов - по одному пенни. Она выторговывала их по одной-две монетки у бакалейщика, зеленщика и мясника, и у нее до сих пор горели щеки при одном воспоминании о том, как она торговалась. Господи, какого мнения были о ней, какой жадной считали ее все эти торговцы!
Делла трижды пересчитала деньги. Один доллар и восемьдесят семь центов… А завтра - Рождество.
Ясное дело, что ничего другого не оставалось, как хлопнуться на маленькую потертую софу и разреветься. Делла так и сделала - из чего можно вывести заключение, что вся наша жизнь состоит из слез, жалоб и улыбок, с перевесом в сторону слез.
В то время как хозяйка будет переходить от одного душевного состояния к другому, мы успеем бросить беглый взгляд на квартиру. Это меблированная квартирка, за которую платят восемь долларов в неделю. Нищенская квартирка - вот наиболее точное определение.
В вестибюле, внизу, висит ящик для писем, в щель которого в жизни не протиснется письмо. Внизу же находится электрический звонок, из которого ни единый смертный не выжмет ни малейшего звука. Там же можно увидеть и визитную карточку: «М-р Джеймс Диллингем Юнг».
Во времена давно прошедшие и прекрасные, когда хозяин дома зарабатывал тридцать долларов в неделю, буквы «Диллингем» имели чрезвычайно заносчивый вид. Но в настоящее время, когда доходы упали до жалкой цифры в двадцать долларов в неделю, эти буквы как будто бы потускнели и словно задумались над очень важной проблемой: а не уменьшиться ли им всем до скромного и незначительного Д.?
Но при всем том, когда бы мистер Джеймс Диллингем Юнг ни возвращался домой и ни взбегал мигом по лестнице, миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже представленная вам как Делла, неизменно восклицала: «Джим!» и крепко- крепко сжимала его в объятиях. Из чего следует, что у них все обстояло благополучно.
Делла кончила плакать и припудрила пуховкой щеки. Она стояла у окна и смотрела на серую кошку, которая пробиралась по серому забору на сером заднем дворе. Завтра Рождество, а у нее только один доллар и восемьдесят семь центов… И на эти деньги она должна купить Джиму подарок. Несколько месяцев она по пенни копила эти деньги - и вот результат. С двадцатью долларами в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались гораздо больше, чем можно было предполагать, - так всегда бывает! И ей удалось отложить только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму. Ее Джиму! Сколько счастливых часов прошло в мечтах! Она строила всевозможные планы и расчеты и раздумывала, что бы этакое красивое купить… Что-нибудь очень изящное, редкое и стоящее, достойное чести принадлежать ее Джиму!
Между окнами стояло простеночное трюмо. Быть может, вам приходилось когда-нибудь видеть подобные зеркала в восьмидолларовых квартирках? Тоненькой и очень подвижной фигурке иногда случается уловить свое изображение в этом ряде узеньких продолговатых стекол. Что касается стройной Деллы, то ей удалось достигнуть совершенства в этом отношении.
Вдруг она отскочила от окна и остановилась у зеркала.
Ее глаза зажглись ярким светом, но лицо потеряло секунд на двадцать свой чудесный румянец.
Она вынула шпильки из волос и распустила их во всю длину.
А теперь я должен сказать вам вот что. У четы Джеймс Диллингем Юнг были две вещи, которыми они гордились сверх всякой меры. Золотые часы Джима, которые в свое время принадлежали его отцу, а еще раньше деду - это раз. И волосы Деллы - два. Если бы царица Савская жила напротив и хоть бы раз в жизни увидела волосы Деллы, когда та сушила их на солнце, то мгновенно и навсегда потускнели бы все драгоценности и дары ее величества.
Если бы, с другой стороны, царь Соломон, при всех своих несметных богатствах, набитых в подвалах, хоть единый раз увидел, как Джим вынимает из кармана свои замечательные часы, то он тут же на месте, на виду у всех, выдрал бы себе бороду от зависти!
Итак, волосы, чудесные волосы Деллы упали вдоль ее плеч и заструились, точно каскад каштановой воды. Они достигли ее колен и окутали ее, словно мантией.
Вдруг нервным и торопливым движением Делла снова собрала волосы. После того минуту-две постояла в глубокой задумчивости, а тем временем несколько скупых слезинок скатилось на потертый красный ковер.
Она надела старый коричневый жакет. Надела старую коричневую шляпку. Затем завихрились юбки, сверкнули глаза, Делла шмыгнула в дверь, слетела со ступенек и очутилась на улице.
Она остановилась перед вывеской, на которой было написано следующее: «М-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос».
Мигом взлетела Делла на второй этаж и остановилась на площадке, с трудом переводя дыхание. Мадам, поразительно белой, холодной и неприятной, совершенно не подходило изящное «Софрони».
- Вы купите мои волосы? - спросила Делла.
- Я покупаю волосы! - ответила та. - Снимите шляпу и дайте мне взглянуть на ваши.
Снова заструился каштановый каскад.
- Двадцать долларов, - молвила мадам, опытной рукой взвешивая волосы.
- Давайте скорее деньги! - сказала Делла.
А затем, в продолжение целых двух часов, она парила по городу на розовых крыльях. Простите эту метафору и затем позвольте сказать вам, что Делла перерыла чуть ли не все магазины в поисках подходящего подарка для Джима.
Наконец, она нашла то, что ей было нужно. Несомненно, это было сделано для Джима — и только для него. Подобной вещи не было больше ни в одном магазине, а она побывала повсюду. Это была карманная платиновая цепочка, очень простого и скромного рисунка, которую только знаток оценил бы по-настоящему, несмотря на отсутствие мишурных украшений. Именно так выглядят стоящие вещи! Цепочка была вполне достойна часов. Как только Делла увидела ее, она тут же на месте решила, что должна купить ее для Джима. Цепочка была подобна ему. Благородство и высокая ценность — вот что одинаково характеризовало и Джима, и цепочку. Делла уплатила за подарок двадцать один доллар и поспешила домой с восьмьюдесятью семью центами в кармане. С подобной цепочкой Джим мог себя свободно чувствовать в любом обществе. Несмотря на высокое качество самих часов, Джим очень редко вынимал их на людях — из-за старого кожаного ремешка, заменявшего цепочку. Но теперь все пойдет по-иному!
Когда Делла вернулась домой, ее возбуждение мгновенно уступило место осторожности и рассудку. Она вынула щипцы для волос, зажгла газ и энергично принялась за ремонт повреждений, произведенных ее благородством и любовью. Ах, дорогие друзья, какая это была тяжелая работа!
Через сорок минут ее голова покрылась мелкими завитушками, которые сделали ее удивительно похожей на лохматого школьника. Она бросила долгий, внимательный и критический взор на свое изображение в зеркале.
- Если Джим сразу не убьет меня, - сказала она самой себе, - то скажет, что я похожа на хористочку с Кони-Айленда. Но что я могла поделать! Что я могла поделать с одним долларом и восьмьюдесятью семью центами в кармане?
К семи часам вечера кофе был готов, и на газовой плите уже стояла сковородка для жаренья котлет. Джим никогда не опаздывал. Делла сложила цепочку, крепко зажала ее в руке и села за стол поближе к двери, в которую всегда входил Джим. Вдруг она услышала шум его шагов по лестнице и на миг побелела, как полотно. У нее была привычка произносить молитву касательно самых незначительных будничных вещей, поэтому она прошептала:
- Господи Боже, сделай так, чтобы Джим и теперь нашел меня хорошенькой!
Дверь открылась, пропустила вперед Джима и закрылась. Джим выглядел похудевшим и очень серьезным. Бедный мальчик! Всего только двадцать два года, а уже обременен семьей! Ему необходимо было новое пальто. Перчаток у него тоже не было.
Он остановился у дверей, точно сеттер, внезапно почуявший куропатку. Джим устремил пристальный взор на Деллу, и как Делла ни старалась, она никак не могла прочесть это выражение. Она испугалась насмерть. Во взгляде Джима не было ни гнева, ни удивления, ни порицания, ни ужаса - словом, ни единого из тех чувств, которых ждала Делла. Он просто стоял против нее и не отрывал от ее головы какого-то странного, незнакомого, необычайного взора.
Делла выскочила из-за стола и побежала к нему.
- Джим, дорогой мой! - взмолилась она. - Ради всего святого, не гляди на меня так! Я срезала волосы и продала их потому только, что не могла встретить Рождество без того, чтобы не купить тебе подарка! Они у меня опять отрастут! Ради бога, не волнуйся: увидишь, что они отрастут! Ничего другого я не могла сделать! А что касается волос, то они растут так быстро… даже чересчур быстро. Ну, Джим, скажи мне: «Счастливого Рождества!» - и будем веселиться! Ах, если бы ты только знал, какой замечательный, какой чудесный подарок я приготовила тебе!
- Значит, ты остригла волосы? - спросил Джим с таким видом, точно после самой напряженной работы ума не мог все-таки уразуметь такой простой и очевидный факт.
- Да, остригла и продала их! - ответила Делла. - Разве же ты из-за этого не так любишь меня, как раньше? Ведь, хоть и без волос, я осталась та же самая и такая же самая!
Джим оглядел всю комнату.
- Итак, ты говоришь, что твоих волос уже больше нет? - снова, почти с идиотским видом спросил он.
- Напрасно ты ищешь их здесь! - сказала Делла. - Ведь я же ясно говорю тебе, что я продала их! Сегодня - сочельник! Пойми же это, дорогой, и будь ласков со мной, потому что я сделала это только для тебя! Очень может быть, что мои волосы уже разделены и рассчитаны, - продолжала она с серьезной нежностью, - но нет на свете такого человека, который бы мог подсчитать мою любовь к тебе!.. Джим, жарить котлеты?
Казалось, Джим вышел, наконец, из состояния столбняка и крепко прижал к своей груди Деллу. Очень прошу вас, бросьте на десять секунд ваш внимательный взор на какой-нибудь другой предмет в комнате. Восемь долларов в неделю или миллион в год - какое значение это имеет? Математик или остряк дадут вам совершенно неправильный ответ. Волхвы принесли в свое время очень ценные дары, но и среди тех даров не было подобного этому. Это туманное утверждение разъяснится впоследствии.
Джим вынул из своего кармана какой-то пакет и бросил его на стол.
- Делла, - сказал он, - я не хочу, чтобы ты ложно истолковала мое поведение. Меня совершенно не волнует, что ты сделала со своими волосами: остригла ли ты их, побрила ли или просто-напросто помыла шампунем. Из-за такой мелочи я не стану меньше любить мою дорогую девочку. Но если ты потрудишься и развернешь этот сверток, то сразу поймешь, почему я в первую минуту так вел себя.
Белые проворные пальцы очень живо справились с веревочкой и бумагой. И тотчас же раздался восторженный крик радости, который - увы! - слишком скоро и чисто по-женски сменился истерическими слезами и воплями, потребовавшими от хозяина квартиры, чтобы он немедленно пустил в ход все имеющиеся в его распоряжении успокоительные средства. Потому что на столе лежали гребни - целый набор боковых и задних гребней, которыми Делла уже очень давно любовалась, видя их часто на одной из витрин на Бродвее. Это были великолепные гребни, настоящие черепаховые, с блестящими украшениями по бокам, вполне подходящие для таких же великолепных, но, к сожалению, остриженных волос Деллы. Это были очень дорогие гребни. Делла прекрасно знала это, и сердечко ее долго и страстно рвалось к ним без малейшей надежды на то, что она когда-нибудь в сей жизни будет обладать ими. И вот сейчас они лежат перед ней, однако уже нет волос, которые эти желанные гребни должны были украшать…
Но она прижала их к своей груди и, наконец, собралась с силами, подняла головку, поглядела на них затуманенными глазами и с улыбкой сказала:
- Джим, у меня страшно быстро растут волосы!
И тут же на месте подскочила, как кошка, и закричала на всю комнату:
- О! О!
Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка! Она порывисто протянула ему этот подарок на своей раскрытой ладони. Казалось, что на тусклый драгоценный металл упало сияние ее яркого и страстного духа.
- Ну, Джим, разве не прелесть? Имей в виду, что я перерыла буквально весь город. Теперь ты сможешь вынимать их сто раз в день. Дай-ка сюда часы! Я хочу посмотреть, как они выглядят с цепочкой!
Но вместо того чтобы исполнить приказание, Джим опустился на софу, заложил руки за голову и улыбнулся.
- Знаешь, что, Делла, я скажу тебе, - промолвил он, - я предложил бы на время отложить наши подарки в сторону. Для настоящего момента они слишком хороши. Я продал часы, чтобы купить тебе гребни. А теперь, дорогая моя, время жарить котлеты.
Как вам известно, волхвы, принесшие подарки младенцу в яслях, были умные, чрезвычайно умные люди. Это они придумали обычай дарить рождественские подарки. Такими же мудрыми, как они сами, были, несомненно, и их подарки, которые в крайнем случае можно было обменять. Не мудрствуя лукаво, я попытался изложить здесь рассказ о двух глупых детях, которые самым немудреным образом пожертвовали друг для друга самыми прекрасными сокровищами своего дома. Но в последнем моем слове, обращенном к современным мудрецам, я позволю себе указать на то, что из всех людей, делавших когда-либо подарки, эти двое - мудрейшие. Из всех людей, делавших и принимавших подарки, они самые мудрые. Таких мудрых людей и на свете до сих пор не было. Они - настоящие волхвы!
Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе : Святочный рассказ с привидениями. Строфа первая
Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уже если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес.
Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.
Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету изо всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить еще и еще раз: Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.
Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки.
Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо не защищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу св. Павла, преследуя при этом единственную цель - поразить и без того расстроенное воображение сына.
Скрудж не вымарал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще годы спустя: СКРУДЖ и МАРЛИ. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда - Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично.
Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Умел, умел старый греховодник! Это был не человек, а кремень. Да, он был холоден и тверд, как кремень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытный, замкнутый, одинокий - он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых святках.
Жара или стужа на дворе - Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он, самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем - они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома.
Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: "Милейший Скрудж! Как поживаете? Когда зайдете меня проведать?" Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаянием, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: "Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом".
А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко.
И вот однажды - и притом не когда-нибудь, а в самый сочельник, - старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три, но становилось уже темно, да в тот день и с утра все , и огоньки свечей, затеплившихся в окнах контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана - такую плотную, что, казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-серой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама Природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику.
Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который в темной маленькой каморке, вернее сказать чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше, - казалось, там тлеет один-единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу.
- С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках! - раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж - не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола.
- Вздор! - проворчал Скрудж. - Чепуха!
Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозцу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели - прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар.
- Это святки - чепуха, дядюшка? - переспросил племянник. - Верно, я вас не понял!
- Слыхали! - сказал Скрудж. - Повеселиться на святках! А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден?
- В таком случае, - весело отозвался племянник, - по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты?
На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое "вздор" и присовокупил еще "чепуха!".
- Не ворчите, дядюшка, - сказал племянник.
- А что мне прикажешь делать. - возразил Скрудж, - ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Веселые святки! Веселые святки! Да провались ты со своими святками! Что такое святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, и хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пенни. Да будь моя воля, - негодующе продолжал Скрудж, - я бы такого олуха, который бегает и кричит: "Веселые святки! Веселые святки!" - сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал кол из остролиста *.
- Дядюшка! - взмолился племянник.
- Племянник! - отрезал дядюшка. - Справляй свои святки как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему.
- Справлять! - воскликнул племянник. - Так вы же их никак не справляете!
- Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих святок! Много проку тебе от них будет!
- Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку, - отвечал племянник. - Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни - дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, - даже в неимущих и обездоленных, - таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ иной породы, которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует рождество!
Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру...
- Эй, вы! - сказал Скрудж. - Еще один звук, и вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, - обратился он к племяннику, - вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте.
- Будет вам гневаться, дядюшка! Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас.
Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек.
- Да почему же? - вскричал племянник. - Почему?
- А почему ты женился? - спросил Скрудж.
- Влюбился, вот почему.
- Влюбился! - проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде "веселых святок". - Ну, честь имею!
- Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями, зачем же теперь сваливать все на мою женитьбу?
- Честь имею! - повторил Скрудж.
- Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями?
- Честь имею! - сказал Скрудж.
- Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами, и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого рождества, дядюшка.
- Честь имею! - сказал Скрудж.
- И счастливого Нового года!
- Честь имею! - повторил Скрудж. И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие.
- Вот еще один умалишенный! - пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. - Какой-то жалкий писец, с жалованием в пятнадцать шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же - толкует о веселых святках! От таких впору хоть в Бедлам сбежать!
А бедный умалишенный тем временем, выпустив племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена приятной наружности, в руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу.
- Скрудж и Марли, если не ошибаюсь? - спросил один из них, сверившись с каким-то списком. - Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли?
- Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище, - отвечал Скрудж. - Он умер в сочельник, ровно семь лет назад.
- В таком случае, мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону, - произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы.
И он не ошибся, ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услыхав зловещее слово "щедрость", Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги.
- В эти праздничные дни, мистер Скрудж, - продолжал посетитель, беря с конторки перо, - более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сирых и обездоленных, кои особенно страждут в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют крыши над головой.
- Разве у нас нет острогов? - спросил Скрудж.
- Острогов? Сколько угодно, - отвечал посетитель, кладя обратно перо.
- А работные дома? - продолжал Скрудж. - Они действуют по-прежнему?
- К сожалению, по-прежнему. Хотя, - заметил посетитель, - я был бы рад сообщить, что их прикрыли.
- Значит, и принудительные работы существуют и закон о бедных остается в силе?
- Ни то, ни другое не отменено.
- А вы было напугали меня, господа. Из ваших слов я готов был заключить, что вся эта благая деятельность по каким-то причинам свелась на нет. Рад слышать, что я ошибся.
- Будучи убежден в том, что все эти законы и учреждения ничего не дают ни душе, ни телу, - возразил посетитель, - мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую толику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали для этой цели сочельник именно потому, что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени?
- Никакой.
- Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени?
- Я хочу, чтобы меня оставили в покое, - отрезал Скрудж. - Поскольку вы, джентльмены, пожелали узнать, чего я хочу, - вот вам мой ответ. Я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников. Я поддерживаю упомянутые учреждения, и это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда.
- Не все это могут, а иные и не хотят - скорее умрут.
- Если они предпочитают умирать, тем лучше, - сказал Скрудж. - Это сократит излишек населения. А кроме того, извините, меня это не интересует.
- Это должно бы вас интересовать.
- Меня все это совершенно не касается, - сказал Скрудж. - Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены!
Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились, а Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно веселом для него настроении.
Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги - бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колокольня, чей древний осипший колокол целыми днями иронически косился на Скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылась из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. В углу двора, примыкавшем к главной улице, рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которой собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили с пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, и он, позабытый всеми, понемногу обрастал льдом в тоскливом одиночестве, пока не превратился в унылую скользкую глыбу. Газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды остролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары. Зеленные и курятные лавки были украшены так нарядно и пышно, что превратились в нечто диковинное, сказочное, и невозможно было поверить, будто они имеют какое-то касательство к таким обыденным вещам, как купля-продажа. Лорд-мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пяти десяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает, и даже маленький портняжка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения, уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежала покупать говядину.
Все гуще туман, все крепче мороз! Лютый, пронизывающий холод! Если бы святой Дунстан * вместо раскаленных щипцов хватил сатану за нос этаким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка!
Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая прославить рождество, но при первых же звуках святочного гимна:
Да пошлет вам радость бог.
Пусть ничто вас не печалит...
Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу тумана и еще более близкого ему по духу мороза.
Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу.
- Вы небось завтра вовсе не намерены являться на работу? - спросил Скрудж.
- Если только это вполне удобно, сэр.
- Это совсем неудобно, - сказал Скрудж, - и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?
Клерк выдавил некоторое подобие улыбки.
- Однако, - продолжал Скрудж, - вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалование даром.
Клерк заметил, что это бывает один раз в году.
- Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год, двадцать пятого декабря, запускать руку в мой карман, - произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы. - Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте послезавтра явиться как можно раньше.
Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк, скатившись раз двадцать - дабы воздать дань сочельнику - по ледяному склону Корнхилла вместе с оравой мальчишек (концы его белого шарфа так и развевались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто), припустился со всех ног домой в Кемден-Таун - играть со своими ребятишками в жмурки.
Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходно-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то на заре своей юности он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уж это был весьма старый дом и весьма мрачный, и, кроме Скруджа, в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались внаем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье.
И вот. Достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже (а это сильно сказано!) городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли.
Лицо Марли, оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того - излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его.
Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток.
Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу.
Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул за нее, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и, пробормотав: "Тьфу ты, пропасть!", Скрудж с треском захлопнул дверь.
Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа и каждая бочка внизу, в погребе виноторговца, отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу.
Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие, и если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями - к стене, дверцами - к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места.
Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги? Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей, так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак.
Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры, Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. И не удивительно - лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами.
Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом - никого, под диваном - никого, в камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой (коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды) - на полочке в очаге. Под кроватью - никого, в шкафу - никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, - тоже никого. В кладовой все на месте: ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга.
Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру - запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки.
Огонь в очаге еле теплился - мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из священного писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники, - словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет - лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка *, и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли - так, словно на гладкой поверхности изразцов не было вовсе никаких изображений, во зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу.
- Чепуха! - проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был, с какой-то никому неведомой целью, повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться.
Сначала он раскачивался еде заметно, и звона почти не было слышно, но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме.
Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили, - все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа - словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что, когда в домах появляются привидения, они обычно влачат за собой цепи.
Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа.
- Все равно вздор! - молвил Скрудж. - Не верю я в привидения.
Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: "Я узнаю его! Это - Дух Марли!" - и снова померкло.
Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли, со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из ключей, висячих, замков, копилок, документов, гроссбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке.
Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил.
Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И все же он не хотел верить своим глазам.
- Что это значит? - произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. - Что вам от меня надобно?
- Очень многое. - Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли.
- Кто вы такой?
- Спроси лучше, кем я был?
- Кем же вы были в таком случае? - спросил Скрудж, повысив голос. - Для привидения вы слишком приве... разборчивы. - Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур.
- При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли.
- Не хотите ли вы... Не можете ли вы присесть? - спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа.
- Могу.
- Так сядьте.
Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак как ни в чем не бывало уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело.
- Ты не веришь в меня, - заметил призрак.
- Нет, не верю, - сказал Скрудж.
- Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя в том, что я существую?
- Не знаю.
- Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?
- Потому что любой пустяк воздействует на них, - сказал Скрудж. - Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почем я знаю!
Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах.
Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза, - нет, черт побери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет! И кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то, чтоб Скрудж сам не ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой, ибо, хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи.
- Видите вы эту зубочистку? - спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвратить от себя каменно-неподвижный взгляд призрака.
- Вижу, - промолвило привидение.
- Да вы же не смотрите на нее, - сказал Скрудж.
- Не смотрю, но вижу, - был ответ.
- Так вот, - молвил Скрудж. - Достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор! Вздор и вздор!
При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок (можно было подумать, что ему стало жарко!) и у него отвалилась челюсть.
Заломив руки, Скрудж упал на колени.
- Пощади! - взмолился он. - Ужасное видение, зачем ты мучаешь меня!
- Суетный ум! - отвечал призрак. - Веришь ты теперь в меня или нет?
- Верю, - воскликнул Скрудж. - Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился мне?
- Душа, заключенная в каждом человеке, - возразил призрак, - должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и - о, горе мне! - взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы - себе и другим на радость.
И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки.
- Ты в цепях? - пролепетал Скрудж, дрожа. - Скажи мне - почему?
- Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни, - отвечал призрак. - Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?
Скруджа все сильнее пробирала дрожь.
- Быть может, - продолжал призрак, - тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник семь лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь!
Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов сто длиной, но ничего не увидел.
- Джейкоб! - взмолился он. - Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чем-нибудь другом! Утешь, успокой меня, Джейкоб!
- Я не приношу утешения, Эбинизер Скрудж! - отвечал призрак. - Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы - слышишь ли ты меня! - никогда не блуждал за стенами этой норы - нашей меняльной лавки, - и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь.
Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз.
- Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб, - почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж.
- Не спеша! - фыркнул призрак.
- Семь лет как ты мертвец, - размышлял Скрудж. - И все время в пути!
- Все время, - повторил призрак. - И ни минуты отдыха, ни минуты покоя. Непрестанные угрызения совести.
- И быстро ты передвигаешься? - поинтересовался Скрудж.
- На крыльях ветра, - отвечал призрак.
- За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние, - сказал Скрудж.
Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка.
- О раб своих пороков и страстей! - вскричало привидение. - Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле! Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал! Не знал!
- Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб, - пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе.
- Дела! - вскричал призрак, снова заламывая руки. - Забота о ближнем - вот что должно было стать моим делом. Общественное благо - вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость, вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятия коммерцией - это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных нам дел.
И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол.
- В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно, - промолвило привидение. - О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову. Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка.
У Скруджа уже зуб на зуб не попадал - он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение.
- Внемли мне! - вскричал призрак. - Мое время истекает.
- Я внемлю, - сказал Скрудж, - но пожалей меня. Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще!
- Как случилось, что я предстал пред тобой, в облике, доступном твоему зрению, - я тебе не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днем.
Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло как в лихорадке, и он отер выступавший на лбу холодный пот.
- И, поверь мне, это была не легкая часть моего искуса, - продолжал призрак. - И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбинизер, ибо я похлопотал за тебя.
- Ты всегда был мне другом, - сказал- Скрудж. - Благодарю тебя.
- Тебя посетят, - продолжал призрак, - еще три Духа.
Теперь и у Скруджа отвисла челюсть.
- Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб, не в этом ли моя надежда? - спросил он упавшим голосом.
- В этом.
- Тогда... тогда, может, лучше не надо, - сказал Скрудж.
- Если эти Духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам, - сказал призрак. - Итак, ожидай первого Духа завтра, как только пробьет Час Пополуночи.
- А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб? - робко спросил Скрудж. - Чтобы уж поскорее с этим покончить?
- Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего - на третьи сутки в полночь, с последнем ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня.
Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услыхав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место. Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подыматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто.
Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился.
Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки: смутные и бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном.
Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу.
Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощенного цепью, но некоторых (как видно, членов некоего дурного правительства) сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний.
Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман - Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса, и опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой.
Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, - ведь он сам ее запер, - и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать "чепуха!", но осекся на первом же слоге. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а быть может и от соприкосновения с Потусторонним Миром или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул как убитый.
http://libavtograd.ru/k2/itemlist/user/15-olga?start=1100#sigProGalleriad658166d85
Первый из трех Духов
Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полога, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак - зрение у него было острое, как у хорька, - и в это мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался.
К его изумлению часы гулко пробили шесть ударов, затем семь, восемь... - и смолкли только на двенадцатом ударе. Полночь! А он лег спать в третьем часу ночи! Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь!
Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил двенадцать раз.
- Что такое? Быть того не может! - произнес Скрудж. - Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки! А может, что-нибудь случилось с солнцем и сейчас не полночь, а полдень?
Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндевело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее Скрудж установил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз и очень тихо и безлюдно - никакой суматохи, никакого переполоха, которые неминуемо должны были возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо, если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула: "...спустя три дня по получении сего вам надлежит уплатить мистеру Эбинизеру Скруджу или его приказу...", не имела бы ровно никакого смысла.
Скрудж снова улегся в постель и стал думать, думать, думать и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе, а чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал.
Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он, по зрелом размышлении, решал, что все это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина, снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос: "Сон это или явь?" - снова вставал перед ним и требовал разрешения.
Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще три четверти, и тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака - когда часы пробьют час, к нему явится езде один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым.
Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар.
- Динь-дон!
- Четверть первого, - принялся отсчитывать Скрудж.
- Динь-дон!
- Половина первого! - сказал Скрудж.
- Динь-дон!
- Без четверти час, - сказал Скрудж.
- Динь-дон!
- Час ночи! - воскликнул Скрудж, торжествуя. - И все! И никого нет!
Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал: густой, гулкий, заунывный звон - ЧАС. В то же мгновение вспышка света озарила комнат), и чья-то невидимая рука откинула полог кровати.
Да, повторяю, чья-то рука откинула полог его кровати и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полог кровати был отброшен, в Скрудж, привскочив на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полог. Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель.
Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка.
Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги - обнаженные так же, как и руки, - поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку остролиста, а подол его одеяния, в странном несоответствии с этой святочной эмблемой зимы, был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая била у него из макушки вверх в освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой Призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по-видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться.
Впрочем, как заметил Скрудж, еще пристальней вглядевшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его особенностью. Ибо, подобно тому как пояс его сверкал и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний, и Призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал двадцатью ногами зараз, но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, но терял все конечности вместе с туловищем и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и Привидение как ни в чем не бывало приобретало свой прежний вид.
- Кто вы, сэр? - спросил Скрудж. - Не тот ли вы Дух, появление которого было мне предсказано?
- Да, это я.
Голос Духа звучал мягко, даже нежно, и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя Дух стоял рядом.
- Кто вы или что вы такое? - спросил Скрудж.
- Я - Святочный Дух Прошлых Лет.
- Каких прошлых? Очень давних? - осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику.
- Нет, на твоей памяти.
Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не смог бы объяснить, если бы это потребовалось, но так или иначе он попросил Привидение надеть колпак.
- Как! - вскричал Дух. - Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты - один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза!
Скрудж как можно почтительнее заверил Духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что привело Духа к нему.
- Забота о твоем благе, - ответствовал Дух.
Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам, - вот это было бы благо. Как видно, Дух услышал его мысли, так как тотчас сказал:
- О твоем спасении, в таком случае. Берегись! С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть.
- Встань! И следуй за мной!
Скрудж хотел было сказать, что час поздний и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище - много ниже нуля, что он одет очень легко - халат, колпак и ночные туфли, - а у него и без того уже насморк... но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скрудж встал с постели. Однако заметив, что Дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние.
- Я простой смертный, - взмолился Скрудж, - я могу упасть.
- Дай мне коснуться твоей груди, - сказал Дух, кладя руку ему на сердце. - Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия.
С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак и туман. - Был холодный, ясный, зимний день, и снег устилал землю.
- Боже милостивый! - воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам. - Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой!
Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетно и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячью запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах.
- Твои губы дрожат, - сказал Дух. - А что это катится у тебя по щеке?
Скрудж срывающимся голосом, - вещь для него совеем необычная, - пробормотал, что это так, пустяки, и попросил Духа вести его дальше.
- Узнаешь ли ты эту дорогу? - спросил Дух.
- Узнаю ли я? - с жаром воскликнул Скрудж. - Да я бы прошел по нее с закрытыми глазами.
- Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней! - заметил Дух. - Идем дальше.
Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребятишки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью.
- Все это лишь тени тех, кто жил когда-то, - сказал Дух. - И они не подозревают о нашем присутствии.
Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того как они приближались, Скрудж узнавал их всех, одного за другим, и называл по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребятишки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу веселых святок? Что Скруджу до веселых святок? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок?
- А школа еще не совсем опустела, - сказал Дух. - Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинешенек.
Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул.
Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию, с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме.
Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую; и, заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные холодные и почти пустые комнаты.
В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей, и что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта.
Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж - за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло голыми стенами, казавшаяся еще более унылой оттого, что в ней рядами стояли простые некрашеные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина, и Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. Все здесь: писк и возня мышей за деревянными панелями, и доносившееся откуда-то из недр дома эхо и звук капели из оттаявшего желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистых сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающейся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине - все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам.
Дух тронул его за плечо и указал на его двойника - погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии, с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами.
- Да это же Али Баба! - не помня себя от восторга, вскричал Скрудж. - Это мой дорогой, старый, честный Али Баба! Да, да, я знаю! Как-то раз на святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али Баба явился ему. Да, да, взаправду явился, вот как сейчас! Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин и его лесной брат Орсон * - вот они, вот! А этот, как его, ну тот, кого положили, пока он спал, в исподнем у ворот Дамаска, - разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джины перевернули вверх ногами! Вон он - стоит на голове! Поделом ему! Я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе!
То-то были бы поражены все коммерсанты Лондонского Сити, с которыми Скрудж вел дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет такой вздор да еще не то плачет, не то смеется самым диковинным образом!
- А вот и попугай! - восклицал Скрудж. - Сам зеленый, хвостик желтый, и на макушке хохолок, похожий на пучок салата! Вот он! "Бедный Робин Крузо, - сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. - Бедный Робин Крузо!
Где ты был, Робин Крузо?" Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало - это говорил попугай, вы же знаете. А вон и Пятница - мчится со всех ног к бухте! Ну же! ну! Скорей! - И тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя: - Бедный, бедный мальчуган! - снова заплакал. - Как бы я хотел... - пробормотал он затем, утирая глаза рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: - Нет, теперь уж поздно.
- А чего бы ты хотел? - спросил его Дух.
- Да ничего, - отвечал Скрудж. - Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все.
Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал:
- Поглядим на другое рождество.
При этих словах Скрудж-ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно так все и было. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник.
Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол.
Тут Скрудж взглянул на Духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь.
Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем.
- Я приехала за тобой, дорогой братец! - говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. - Ты поедешь со мной домой! Домой! Домой!
- Домой, малютка Фэн? - переспросил мальчик.
- Ну, да! - воскликнуло дитя, сияя от счастья. - Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась, - взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: "Да, пускай приедет", и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной, - продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами, - и никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все святки, и как же мы будем веселиться!
- Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фэн! - воскликнул мальчик.
Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней.
Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую:
- Тащите вниз сундучок ученика Скруджа! - И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруджа свирепо-снисходительным взглядом и пожал ему руку, чем поверг его в состояние полной растерянности, а затем повел обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесный глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик "того самого", на что он отвечал, что он благодарит хозяина, но если "то самое", чем его уже раз потчевали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатили со двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечнозеленых растений.
- Хрупкое создание! - сказал Дух. - Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце.
- О да! - вскричал Скрудж. - Ты прав, Дух, и не мне это отрицать, боже упаси!
- Она умерла уже замужней женщиной, - сказал Дух. - И помнится, после нее остались дети.
- Один сын, - поправил Скрудж.
- Верно, - сказал Дух. - Твой племянник. Скруджу стало как будто не по себе, и он буркнул:
- Да.
Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих, и тени повозок и карет катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчеи.
Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили святки. Но на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари.
Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание.
- Еще бы! - воскликнул Скрудж. - Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение!
Они вступили внутрь. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она еще хоть на два дюйма выше, голова у него уперлась бы в потолок, Скрудж в неописуемом волнении воскликнул:
- Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физзиуиг, живехонек!
Старый Физзиуиг отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали семь пополудни. С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей, - и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом:
- Эй, вы! Эбинизер! Дик!
И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым "человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика.
- Да ведь это Дик Уилкинс! - сказал Скрудж, обращаясь к Духу. - Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, он! Бедный Дик! Он был так ко мне привязан.
- Бросай работу, ребята! - сказал Физзиуиг. - На сегодня хватит. Ведь нынче сочельник, Дик! Завтра рождество, Эбинизер! Ну-ка, мигом запирайте ставни! - крикнул он, хлопая в ладоши. - Живо, живо! Марш!
Вы бы видели, как они взялись за дело! Раз, два, три - они уже выскочили на улицу со ставнями в руках; четыре, пять, шесть - поставили ставни на место; семь, восемь, девять - задвинули и закрепили болты, и прежде чем вы успели бы сосчитать до двенадцати, уже влетели обратно, дыша как призовые скакуны у финиша.
- Ого-го-го-го! - закричал старый Физзиуиг, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки. - Тащите все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места. Шевелись, Дик! Веселей, Эбинизер!
Тащить прочь! Интересно знать, чего бы они ни оттащили прочь, с благословения старика. В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещенный бальный зал, какой можно только пожелать для танцев в зимний вечер.
Пришел скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физзиуиг - сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс Физзиуиг - цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом - булочником. Пришла кухарка с закадычным другом своего родного брата - молочником. Пришел мальчишка-подмастерье из лавки насупротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девчонку - служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все, один за другим,- кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто расталкивая других, кто таща кого-то за собой,- словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс - все двадцать пар разом. Побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую. И пара за парой - на середину комнаты и обратно. И закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала - и вСЯКИЙ раз раньше, чем следовало,- пока, наконец, все пары не стали головными и все не перепуталось окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый Физзиуиг захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал:
- Славно сплясали! - И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул из-за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запиликал, и притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобморочном состоянии оттащили домой на ставне, либо погибнуть.
А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы, а затем был сладкий пирог, и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей и вволю пива. Но самое интересное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач (до чего же ловок, пес его возьми! Да, не нам с вами его учить, этот знал свое дело!) заиграл старинный контраданс "Сэр Роджер Каверли" и старый Физзиуиг встал и предложил руку миссис Физзиуиг. Они пошли в первой паре, разумеется, и им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар двадцать, а то и больше, и все - лихие танцоры, все - такой народ, что шутить не любят и уж коли возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток!
Но будь их хоть, пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар - старый Физзиуиг и тут бы не сплошал, да и миссис Физзиуиг тоже. Да, она воистину была под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу - она достойна и этой. От икр мистера Физзиуига положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый Физзиуиг и миссис Физзиуиг проделали все фигуры танца, как положено,- и бегом вперед, и бегом назад, и, взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились, наконец, на свое место, старик Физзиуиг подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками - да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцорам,- и тут же сразу стал как вкопанный.
Когда часы пробили одиннадцать, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физзиуиг, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гостье и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, а двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина.
Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о Духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко.
- Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности,- заметил Дух.
- Немного? - удивился Скрудж.
Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физзиуигу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал:
- Ну что? Разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу - всего три-четыре фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал?
- Да не в этом суть, - возразил Скрудж, задетый за живое его словами и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. - Не в этом суть, Дух. Ведь от Физзиуига зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд - легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить, - все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. - Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд Духа и запнулся.
- Что же ты умолк? - спросил его Дух.
- Так, ничего, - отвечал Скрудж.
- Ну а все-таки, - настаивал Дух.
- Пустое, - сказал Скрудж, - пустое. Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку. Вот и все.
Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с Духом опять стояли под открытым небом.
- Мое время истекает, - заметил Дух. - Поспеши!
Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас произвели свое действие, Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше - в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резки и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе и что станет с ним, когда она вырастет и черная ее тень поглотит его целиком.
Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от Духа сияния.
- Ах, все это так мало значит для тебя теперь, - говорила она тихо. - Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться.
- Что это за божество, которое вытеснило тебя? - спросил Скрудж.
- Деньги.
- Нет справедливости на земле! - молвил Скрудж. - Беспощаднее всего казнит свет бедность, и не менее сурово - на словах, во всяком случае, - осуждает погоню за богатством.
- Ты слишком трепещешь перед мнением света, - кротко укорила она его. - Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной - стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим и новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком!
- Ну и что же? - возразил он. - Что плохого, даже если я и поумнел наконец? Мое отношение к тебе не изменилось.
Она покачала головой.
- Разве не так?
- Наша помолвка - дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным.
- Я был мальчишкой, - нетерпеливо отвечал он.
- Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь, - возразила она. - А я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью размышляла я над этим. Да, я много думала и решила вернуть тебе свободу.
- Разве я когда-нибудь просил об этом?
- На словах - нет. Никогда.
- А каким же еще способом?
- Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она для тебя важнее всего. И это сделало мою любовь ненужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся, - сказала девушка, кротко, но вместе с тем пристально и твердо глядя ему в глаза, - если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать? О нет!
Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов. Но все же, сделав над собой усилие, ответил:
- Это только ты так думаешь.
- Видит бог, я была бы рада думать иначе! - отвечала она. - Уж если я должна была, наконец, признать эту горькую истину, значит как же она сурова и неопровержима! Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены бесприданницу! Это - ты-то! Да ведь даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован Корыстью! Да если бы даже ты на миг изменил себе и остановил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление! Нет, я понимаю все. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле - во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то.
Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отворотясь от него:
- Быть может... Когда я вспоминаю прошлое, я верю в это... Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты себе избрал! - С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда.
- Дух! - вскричал Скрудж. - Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня!
- Ты увидишь еще одну тень Прошлого, - сказал Дух.
- Ни единой, - крикнул Скрудж. - Ни единой. Я не желаю ее видеть! Не показывай мне больше ничего!
Но неумолимый Дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше.
Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и не богатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко, по-зимнему, пылали дрова, сидела молодая красивая девушка.
Скрудж принял было ее за свою только что скрывшуюся подружку - так они были похожи, - но тотчас же увидал и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении *, где сорок коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел как добрых сорок, и результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек, а последняя вскоре и сама приняла участие в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно тормошить ее.
Ах, как бы мне хотелось быть одним из них! Но я бы никогда не был так груб, о нет, нет! Ни за какие сокровища не посмел бы я дернуть за эти косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки - господи, спаси нас и помилуй! - бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию! Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы уж не выпрямилась в наказание за такую дерзость.
Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне! Любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках! Распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых - бесценное сокровище! Словом, не скрою, что я желал бы пользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену.
Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка - с смеющимся лицом и в изрядно помятом платье - оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовала отца, едва тот успел ступить за порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге; его душили, обхватив за шею; на нем повисали, уцепившись за галстук; его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъявляя этим самую нежную к нему любовь! А крики изумления и восторга, которыми сопровождалось вскрытие каждого пакета! А неописуемый ужас, овладевший всеми, когда самого маленького застигли на месте преступления - с игрушечной сковородкой, засунутой в рот, - и попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке! А всеобщее ликование, когда тревога оказалась ложной! Все это просто не поддается описанию! Скажем только, что один за другим все ребятишки, - а вместе с ними и шумные изъявления их чувств, - были удалены из гостиной наверх и водворены в постели, где мало-помалу и угомонились.
Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувшей к его плечу дочерью занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет!
- Бэлл, - сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, - а я видел сегодня твоего старинного приятеля.
- Кого же это?
- Угадай!
- Как могу я угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь! - воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. - Мистера Скруджа?
- Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставен, так что я при всем желании не мог его не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти, и он, понимаешь, сидит там у себя один-одинешенек. Один, как перст, на всем белом свете.
- Дух! - произнес Скрудж надломленным голосом. - Уведи меня отсюда.
- Я ведь говорил тебе, что все это - тени минувшего, - отвечал Дух. - Так оно было, и не моя в том вина.
- Уведи меня! - взмолился Скрудж. - Я не могу это вынести.
Он повернулся к Духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться.
- Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня!
Борясь с Духом, - если это можно назвать борьбой, ибо Дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, - Скрудж увидел, что сноп света у Духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил Духу на голову.
Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове Духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю.
Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он что было мочи на колпак-гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.
Второй, из трех Духов
Громко всхрапнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют Час Пополуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым Духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати отдернется на этот раз полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам, своими руками, отбросить обе половинки полога, после чего улегся обратно на подушки и окинул зорким взглядом комнату. Он твердо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать и первый окликнет Духа.
Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам черт не брат и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на все - от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас, что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными феноменами, и появление любых призраков - от грудных младенцев до носорогов - не могло бы его теперь удивить.
Однако будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было, и потому, когда часы на колокольне пробили час и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло как в лихорадке. Прошло еще пять минут, десять, пятнадцать - ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда, и именно потому, что это было всего-навсего сияние и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он являет собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания, но лишен при этом утешения знать это наверняка. Наконец он подумал все же - как вы или я подумали бы, без сомнения, с самого начала, ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать, и доведись ему, именно так бы, разумеется, и поступил, - итак, повторяю, Скрудж подумал все же, наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился.
Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос, назвав его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался.
Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло. Но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. Яркие блестящие ягоды весело проглядывали в зеленой листве. Свежие твердые листья остролиста, омелы и плюща так и сверкали, словно маленькие зеркальца, развешенные на ветвях, а в камине гудело такое жаркое пламя, какого и не снилось этой древней окаменелости, пока она находилась во владении Скруджа и Марли и одну долгую зиму за другой холодала без огня. На полу огромной грудой, напоминающей трон, были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринужденно и величаво восседал такой веселый и сияющий Великан, что сердце радовалось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, несколько похожий по форме на рог изобилия, и он поднял его высоко над головой, чтобы хорошенько осветить Скруджа, когда тот просунул голову в дверь.
- Войди! - крикнул Скруджу Призрак. - Войди, и будем знакомы, старина!
Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурив голову, перед Призраком. Скрудж был уже не прежний, угрюмый, Суровый, старик, и не решался поднять глаза и встретить ясный и добрый взор Призрака.
- Я Дух Нынешних Святок, - сказал Призрак. - Взгляни на меня!
Скрудж почтительно повиновался. Дух был одет в простой темно-зеленый балахон, или мантию, отороченную белым мехом. Одеяние это свободно и небрежно спадало с его плеч, и широкая грудь великана была обнажена, словно он хотел показать, что не нуждается ни в каких искусственных покровах и защите. Ступни, видневшиеся из-под пышных складок мантии, были босы, и на голове у Призрака тоже не было никакого убора, кроме венчика из остролиста, на которых сверкали кое-где льдинки. Длинные темно-каштановые кудри рассыпались по плечам, доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело, и все - и жизнерадостный вид, и свободное обхождение, и приветливо протянутая рука, - все в нем было приятно и непринужденно. На поясе у Духа висели старинные ножны, но - пустые, без меча, да и сами ножны были порядком изъедены ржавчиной.
- Ты ведь никогда еще не видал таких, как я! - воскликнул Дух.
- Никогда, - отвечал Скрудж.
- Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, из которых я - самый младший? Я хочу сказать - с теми из моих старших братьев, которые рождались в последние годы? - продолжал допрашивать Призрак.
- Как будто нет, - сказал Скрудж. - Боюсь, что нет. А у тебя много братьев, Дух?
- Свыше тысячи восьмисот, - отвечал Дух.
- Вот так семейка! Изволь-ка ее прокормить! - пробормотал Скрудж.
Святочный Дух встал.
- Дух, - сказал Скрудж смиренно. - Веди меня куда хочешь. Прошлую ночь я шел по принуждению и получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты тоже должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу.
- Коснись моей мантии.
Скрудж сделал, как ему было приказано, да уцепился за мантию покрепче.
Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, битая птица, свиные окорока, говяжьи туши, поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, фрукты и чаши с пуншем - все исчезло в мгновение ока. А с ними исчезла и комната, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и ночной мрак, и вот уже Дух и Скрудж стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз, и на улице звучала своеобразная музыка, немного резкая, но приятная, - счищали снег с тротуаров и сгребали его с крыш, к безумному восторгу мальчишек, смотревших, как, рассыпаясь мельчайшей пылью, рушатся на землю снежные лавины.
На фоне ослепительно белого покрова, лежавшего на кровлях, и даже не столь белоснежного - лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, а окна - и того еще сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажей и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, а на перекрестках больших улиц эти колеи, скрещиваясь сотни раз, образовали в густом желтом крошеве талого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, похожей не то на изморозь, не то на пар и оседавшей на землю темной, как сажа, росой, словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом - и ну дымить, кто во что горазд! Словом, ни сам город, ни климат не располагали особенно к веселью, и тем не менее на улицах было весело, - так весело, как не бывает, пожалуй, даже в самый погожий летний день, когда солнце светит так ярко и воздух так свеж и чист.
А причина этого таилась в том, что люди, сгребавшие снег с крыш, полны были бодрости и веселья. Они задорно перекликались друг с другом, а порой и запускали в соседа снежком - куда менее опасным снарядом, чем те, что слетают подчас с языка, - и весело хохотали, если снаряд попадал в цель, и еще веселее - если он летел мимо. В курятных лавках двери были еще наполовину открыты *, а прилавки фруктовых лавок переливались всеми цветами радуги. Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, привалясь к притолоке, а порой и совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были и румяные, смуглолицые толстопузые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щеки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигивали с полок пробегавшим мимо девушкам, которые с напускной застенчивостью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку омелы *. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были гроздья винограда, развешенные тароватым хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюнки. Здесь были груды орехов - коричневых, чуть подернутых пушком, - чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по щиколотку в опавшей листве, и слышать, как она шелестит под ногой. Здесь были печеные яблоки, пухлые, глянцевито-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов и всем своим аппетитным видом настойчиво и пылко убеждавшие вас отнести их домой в бумажном пакете и съесть на десерт. Даже золотые и серебряные рыбки, плававшие в большой чаше, поставленной в центре всего этого великолепия, - даже эти хладнокровные натуры понимали, казалось, что происходит нечто необычное, и, беззвучно разевая рты, все, как одна, в каком-то бесстрастном экстазе описывали круг за кругом внутри своего маленького замкнутого мирка.
А бакалейщики! О, у бакалейщиков всего одна или две ставни, быть может, были сняты с окон, но чего-чего только не увидишь, заглянув туда! * И мало того, что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок, а бечевка так стремительно разматывалась с катушки, а жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок, словно это были мячики в руках самого опытного жонглера, а смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри, а изюму было столько и таких редкостных сортов, а миндаль был так ослепительно бел, а палочки корицы - такие прямые и длинненькие, и все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой! И мало того, что инжир был так мясист и сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались так кисло-сладко из своих пышно разукрашенных коробок и все, решительно все выглядело так вкусно и так нарядно в своем рождественском уборе... Самое главное заключалось все же в том, что, невзирая на страшную спешку и нетерпение, которым все были охвачены, невзирая на то, что покупатели то и дело натыкались друг на друга в дверях - их плетеные корзинки только трещали, - и забывали покупки на прилавке, и опрометью бросались за ними обратно, и совершали еще сотню подобных промахов, - невзирая на это, все в предвкушении радостного дня находились в самом праздничном, самом отличном расположении духа, а хозяин и приказчики имели такой добродушный, приветливый вид, что блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристегнуты тесемки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения и на радость рождественским галкам, дабы те могли поклевать их на святках *.
Но вот заблаговестили на колокольне, призывая всех добрых людей в храм божий, и веселая, празднично разодетая толпа повалила по улицам. И тут же изо всех переулков и закоулков потекло множество народу: это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни *. Вид этих бедных людей, собравшихся попировать, должно быть очень заинтересовал Духа, ибо он остановился вместе со Скруджем в дверях пекарни и, приподымая крышки с проносимых мимо кастрюль, стал кропить на пищу маслом из своего светильника. И, видно, это был совсем необычный светильник, так как стоило кому-нибудь столкнуться в дверях и завязать перебранку, как Дух кропил из своего светильника спорщиков и к ним тотчас возвращалось благодушие. Стыдно, говорили они, ссориться в первый день рождества. И верно, еще бы не стыдно!
В положенное время колокольный звон утих, и двери пекарен закрылись, но на тротуарах против подвальных окон пекарен появились проталины на снегу, от которых шел такой пар, словно каменные плиты тротуаров тоже варились или парились, и все это приятно свидетельствовало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь.
- Чем это ты на них покропил? - спросил Скрудж Духа. - Может, это придает какой-то особенный аромат кушаньям?
- Да, особенный.
- А ко всякому ли обеду он подойдет?
- К каждому, который подан на стол от чистого сердца, и особенно - к обеду бедняка.
- Почему к обеду бедняка особенно?
- Потому что там он нужней всего.
- Дух, - сказал Скрудж после минутного раздумья, - дивлюсь я тому, что именно ты, из всех существ, являющихся к нам из разных потусторонних сфер, именно ты, Святочный Дух, хочешь во что бы то ни стало помешать этим людям предаваться их невинным удовольствиям.
- Я? - вскричал Дух.
- Ты же хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели * - а у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так?
- Я этого хочу? - повторил Дух.
- Ты же хлопочешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни, - сказал Скрудж. - А это то же самое.
- Я хлопочу? - снова возмутился Дух.
- Ну, прости, если я ошибся, но это делается твоим именем или, во всяком случае, от имени твоей родни, - сказал Скрудж.
- Тут, на вашей грешной земле, - сказал Дух, - есть немало людей, которые кичатся своей близостью к нам и, побуждаемые ненавистью, завистью, гневом, гордыней, ханжеством и себялюбием, творят свои дурные дела, прикрываясь нашим именем. Но эти люди столь же чужды нам, как если бы они никогда и не рождались на свет. Запомни это и вини в их поступках только их самих, а не нас.
Скрудж пообещал, что так он и будет поступать впредь, и они, по-прежнему невидимые, перенеслись на глухую окраину города. Надо сказать, что Дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обратил внимание, когда они еще находились возле пекарни: невзирая на свой исполинский рост, этот Призрак чрезвычайно легко приспосабливался к любому месту и стоял под самой низкой кровлей столь же непринужденно, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько не терял при этом своего неземного величия.
И то ли доброму Духу доставляло удовольствие проявлять эту свою особенность, то ли он сделал это потому, что был по натуре великодушен и добр и жалел бедняков, но только прямо к жилищу клерка - того самого, что работал у Скруджа в конторе, - направился он и повлек Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой. На пороге дома Боба Крэтчита Дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. Подумайте только! Жилище Боба, который и получал-то всего каких-нибудь пятнадцать "бобиков", сиречь шиллингов, в неделю! Боба, который по субботам клал в карман всего-навсего пятнадцать материальных воплощений своего христианского имени! И тем не менее святочный Дух удостоил своего благословения все его четыре каморки.
Тут встала миссис Крэтчит, супруга мистера Крэтчита, в дешевом, дважды перелицованном, но зато щедро отделанном лентами туалете - всего на шесть пенсов ленты, а какой вид! - и расстелила на столе скатерть, в чем ей оказала помощь Белинда Крэтчит, ее вторая дочка, тоже щедро отделанная лентами, а юный Питер Крэтчит погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем, и когда концы гигантского воротничка (эта личная собственность Боба Крэтчита перешла по случаю великого праздника во владение его сына, и прямого наследника) полезли от резкого движения ему в рот, почувствовал себя таким франтом, что загорелся желанием немедленно щегольнуть своим крахмальным бельем на великосветском гулянье в парке. Тут в комнату с визгом ворвались еще двое Крэтчитов - младший сын и младшая дочка - и, захлебываясь от восторга, оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем и они сразу по запаху учуяли, что это жарится их гусь. И зачарованные ослепительным видением гуся, нафаршированного луком и шалфеем, они принялись плясать вокруг стола, превознося до небес юного Пита Крэтчита, который тем временем так усердно раздувал огонь в очаге (он ничуть не возомнил о себе лишнего, несмотря на великолепие едва не задушившего его воротничка), что картофелины в лениво булькавшей кастрюле стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри о крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкурку.
- Куда это запропастился ваш бесценный папенька? - вопросила миссис Крэтчит. - И ваш братец Малютка Тим! Да и Марте уже полчаса как надо бы прийти. В прошлое рождество она не запаздывала так.
- Марта здесь, маменька, - произнесла молодая девушка, появляясь в дверях.
- Марта здесь, маменька! - закричали младшие Крэтчиты. - Ура! А какой у нас будет гусь, Марта!
- Господь с тобой, душа моя, где это ты нынче запропала! - приветствовала дочку миссис Крэтчит и, расцеловав ее в обе щеки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали.
- Вчера допоздна сидели, маменька, надо было закончить всю работу, - отвечала девушка. - А сегодня все утро прибирались.
- Ладно! Слава богу, что пришла наконец! - сказала миссис Крэтчит. - Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся.
- Нет, нет! Папенька идет! - запищали младшие Крэтчиты, которые умудрялись поспевать решительно всюду. - Спрячься, Марта! Спрячься!
Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства - щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фута на три, не считая бахромы, и с Малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах.
- А где же наша Марта? - вскричал Боб Крэтчит, озираясь по сторонам.
- Она не придет, - объявила миссис Крэтчит.
- Не придет? - повторил Боб Крэтчит упавшим голосом. А он-то мчался из церкви, как кровный скакун с Малюткой Тимом в седле, и пришел домой галопом! - Не придет к нам на первый день рождества?
Конечно, это была только шутка, но огорченный вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею, а младшие Крэтчиты завладели Малюткой Тимом и потащили его на кухню - послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завернутый в салфетку пудинг.
- А как вел себя наш Малютка Тим? - осведомилась миссис Крэтчит, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой.
- Это не ребенок, а чистое золото, - отвечал Боб. - Чистое золото. Он, понимаешь ли, так часто остается один и все сидит себе и раздумывает, и до такого иной раз додумается - просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне: хорошо, дескать, что его видели в церкви. Ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими.
Голос Боба заметно дрогнул, когда он заговорил о своем маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим день ото дня становится все крепче и здоровее, голос у него задрожал еще сильнее.
Боб не успел больше ничего сказать - раздался стук маленького проворного костыля, и Малютка Тим, в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Боб, подвернув обшлага (бедняга, верно, думал, что им еще может что-нибудь повредить!), налил воды в кувшин, добавил туда джина и несколько ломтиков лимона и принялся все это старательно разбалтывать, а потом поставил греться на медленном огне. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших Крэтчитов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии.
Появление гуся произвело невообразимую суматоху. Можно было подумать, что эта домашняя птица такой феномен, по сравнению с которым черный лебедь самое заурядное явление. А впрочем, в этом бедном жилище гусь и впрямь был диковинкой. Миссис Крэтчит подогрела подливку (приготовленную заранее в маленькой кастрюльке), пока она не зашипела. Юный Питер с нечеловеческой энергией принялся разминать картофель. Мисс Белинда добавила сахару в яблочный соус. Марта обтерла горячие тарелки. Боб усадил Малютку Тима в уголку, рядом с собой, а Крэтчиты младшие расставили для всех стулья, не забыв при этом и себя, и застыли у стола на сторожевых постах, закупорив себе ложками рты, дабы не попросить кусочек гуся, прежде чем до них дойдет черед.
Но вот стол накрыт. Прочли молитву. Наступает томительная пауза. Все затаили дыхание, а миссис Крэтчит, окинув испытующим взглядом лезвие ножа для жаркого, приготовилась вонзить его в грудь птицы. Когда же нож вонзился, и брызнул сок, и долгожданный фарш открылся взору, единодушный вздох восторга пронесся над столом, и даже Малютка Тим, подстрекаемый младшими Крэтчитами, постучал по столу рукояткой ножа и слабо пискнул:
- Ура!
Нет, не бывало еще на свете такого гуся! Боб решительно заявил, что никогда не поверит, чтобы где-нибудь мог сыскаться другой такой замечательный фаршированный гусь! Все наперебой восторгались его сочностью и ароматом, а также величиной и дешевизной. С дополнением яблочного соуса и картофельного пюре его вполне хватило на ужин для всей семьи. Да, в самом деле, они даже не смогли его прикончить, как восхищенно заметила миссис Крэтчит, обнаружив уцелевшую на блюде микроскопическую косточку. Однако каждый был сыт, а младшие Крэтчиты не только наелись до отвала, но перемазались луковой начинкой по самые брови. Но вот мисс Белинда сменила тарелки, и миссис Крэтчит в полном одиночестве покинула комнату, дабы вынуть пудинг из котла. Она так волновалась, что пожелала сделать это без свидетелей.
А ну как пудинг не дошел! А ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы! А ну как его стащили, пока они тут веселились и уплетали гуся! Какой-нибудь злоумышленник мог ведь перелезть через забор, забраться во двор и похитить пудинг с черного хода! Такие предположения заставили младших Крэтчитов помертветь от страха. Словом, какие только ужасы не полезли тут в голову!
Внимание! В комнату повалил пар! Это пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки! Это - от мокрой салфетки. Теперь пахнет как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка! Ну, конечно, - несут пудинг!
И вот появляется миссис Крэтчит - раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде, - таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой остролиста, воткнутой в самую его верхушку.
О дивный пудинг! Боб Крэтчит заявил, что за все время их брака миссис Крэтчит еще ни разу ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства, а миссис Крэтчит заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, как грызло ее беспокойство - хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из Крэтчитов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намек.
Но вот с обедом покончено, скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь. Попробовали содержимое кувшина и признали его превосходным. На столе появились яблоки и апельсины, а на угли высыпали полный совок каштанов. Зятем все семейство собралось у камелька "в кружок", как выразился Боб Крэтчит, имея в виду, должно быть, полукруг. По правую руку Боба выстроилась в ряд вся коллекция фамильного хрусталя: два стакана и кружка с отбитой ручкой.
Эти сосуды, впрочем, могли вмещать в себя горячую жидкость ничуть не хуже каких-нибудь золотых кубков, и когда Боб наполнял их из кувшина, лицо его сияло, а каштаны на огне шипели и лопались с веселым треском. Затем Боб провозгласил:
- Веселых святок, друзья мои! И да благословит нас всех господь!
И все хором повторили его слова.
- Да осенит нас господь своею милостью! - промолвил и Малютка Тим, когда все умолкли.
Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку, и хотел все время чувствовать его возле себя.
- Дух, - сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал. - Скажи мне, Малютка Тим будет жить?
- Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага, - отвечал Дух. - И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если Будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет.
- Нет, нет! - вскричал Скрудж. - О нет! Добрый Дух, скажи, что судьба пощадит его!
- Если Будущее не внесет в это изменений, - повторил Дух, - дитя не доживет до следующих святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения!
Услыхав, как Дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью.
- Человек! - сказал Дух, - Если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, ЧТО есть излишек и ГДЕ он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто - умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судии куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. О боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли!
Скрудж согнулся под тяжестью этих укоров и потупился, трепеща. Но тут же поспешно вскинул глаза, услыхав свое имя.
- За здоровье мистера Скруджа! - сказал Боб. - Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника.
- Скажешь тоже - не справить! - вскричала миссис Крэтчит, вспыхнув. - Жаль, что его здесь нет. Я бы такой тост предложила за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы!
- Моя дорогая! - укорил ее Боб. - При детях! В такой день!
- Да уж воистину только ради этого великого дня можно пить за здоровье такого гадкого, бесчувственного, жадного скареды, как мистер Скрудж, - заявила миссис Крэтчит. - И ты сам это знаешь, Роберт! Никто не знает его лучше, чем ты, бедняга!
- Моя дорогая, - кротко отвечал Боб. - Сегодня рождество.
- Так и быть, выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника, - сказала миссис Крэтчит. - Но только не ради него. Пусть себе живет и здравствует. Пожелаем ему веселых святок и счастливого Нового года. То-то он будет весел и счастлив, могу себе представить!
Вслед за матерью выпили и дети, но впервые за весь вечер они пили не от всего сердца. Малютка Тим выпил последним - ему тоже был как-то не по душе этот тост. Мистер Скрудж был злым гением этой семьи. Упоминание о нем черной тенью легло на праздничное сборище, и добрых пять минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень.
Но когда она развеялась, им стало еще веселее, чем прежде, от одного сознания, что со Скруджем-Сквалыжником на сей раз покончено. Боб рассказал, какое он присмотрел для Питера местечко, - если дело выгорит, у них прибавится целых пять шиллингов шесть пенсов в неделю. Крэтчиты младшие помирали со смеху при одной мысли, что их Питер станет деловым человеком, а сам юный Питер задумчиво уставился на огонь, устремив взгляд в узкую щель между концами воротничка и словно прикидывая, куда предпочтитедьнее будет поместить капитал, когда к нему начнут поступать такие несметные доходы. Тут Марта, которая была отдана в обучение шляпной мастерице, принялась рассказывать, какую ей приходится выполнять работу и по скольку часов трудиться без передышки, и как она рада, что завтра можно подольше поваляться в постели и хорошенько выспаться, благо праздник, и ее отпустили на весь день, и как намедни она видела одну графиню и одного лорда и лорд был "этакий невысокий, ну совсем как наш Питер". При этих словах Питер подтянул свой воротничок так высоко, что, если бы вы при этом присутствовали, вам, пожалуй, не удалось бы установить, есть ли у него вообще голова. А тем временем каштаны и кувшин уже не раз обошли всех вкруговую, и вот Малютка Тим тоненьким жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран, и спел ее, поверьте, превосходно.
Конечно, все это было довольно убого и заурядно, никто в этом семействе не отличался красотой, никто не мог похвалиться хорошим костюмом, - насчет одежды у них вообще было небогато, - башмаки у всех просили каши, а юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с ссудной кассой. И тем не менее все здесь были счастливы, довольны друг другом, рады празднику и благодарны судьбе, а когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, лица их как-то особенно засветились, ибо Дух окропил их на прощанье маслом из своего факела, и Скрудж не мог оторвать от них глаз, а в особенности - от Малютки Тима.
Тем временем уже стемнело, и повалил довольно густой снег, и когда Скрудж в сопровождении Духа снова очутился на улице, в каждом доме во всех комнатах, от кухонь до гостиных, уже жарко пылали камины и в окнах заманчиво мерцало их веселое пламя. Здесь дрожащие отблески огня на стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду: у очага грелись тарелки, и чья-то рука уже поднялась, чтобы задернуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака. Там ребятишки гурьбой высыпали из дому прямо на снег навстречу своим теткам и дядям, кузенам и кузинам, замужним сестрам и женатым братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей. А вот кучка красивых девушек в теплых капорах и меховых башмачках, щебеча без умолку, перебегает через дорогу к соседям, и горе одинокому холостяку (очаровательным плутовкам это известно не хуже нас), который увидит их разрумянившиеся от мороза щечки!
Право, глядя на всех этих людей, направлявшихся на дружеские сборища, можно было подумать, что решительно все собрались в гости и ни в одном доме не осталось хозяев, чтобы гостей принять. Но это было не так. Гостей поджидали в каждом доме и то и дело подбрасывали угля в камин.
И как же ликовал Дух! Как радостно устремлялся он вперед, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони и щедрой рукой разливая вокруг бесхитростное и зажигательное веселье. Даже фонарщик, бежавший по сумрачной улице, оставляя за собой дрожащую цепочку огней, и приодевшийся, чтобы потом отправиться в, гости, громко рассмеялся, когда Дух пронесся мимо, хотя едва ли могло прийти бедняге в голову, что кто-нибудь, кроме его собственного праздничного настроения, составляет ему в эту минуту компанию.
И вдруг - а Дух хоть бы словом об этом предупредил - Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного торфяного болота. Огромные разбросанные в беспорядке каменные глыбы придавали болоту вид кладбища каких-то гигантов. Отовсюду сочилась вода - вернее, могла бы сочиться, если бы ее не сковал кругом, насколько хватал глаз, мороз, - и не росло ничего кроме мха, дрока и колючей сорной травы. На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полосу, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустенье и, становясь все уже и уже, померкла, наконец, слившись с сумраком беспросветной ночи.
- Где мы? - спросил Скрудж.
- Там, где живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли, - отвечал Дух. - Но и они не чуждаются меня. Смотри!
В оконце какой-то хибарки блеснул огонек, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Их глазам предстала веселая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старые-престарые старик и старуха со своими детьми, внуками и даже правнуками. Все они были одеты нарядно - по-праздничному. Старик слабым, дрожащим голосом, то и дело заглушаемым порывами ветра, проносившегося с завываньем над пустынным болотом, пел рождественскую песнь, знакомую ему еще с детства, а все подхватывали хором припев. И всякий раз, когда вокруг старика начинали звучать голоса, он веселел, оживлялся, и голос его креп, а как только голоса стихали, и его голос слабел и замирал.
Дух не замешкался у этой хижины, но, приказав Скруджу покрепче ухватиться за его мантию, полетел дальше над болотом... Куда? Неужто к морю? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж, к своему ужасу, увидел грозную гряду скал - оставшийся позади берег. Его оглушил грохот волн. Пенясь, дробясь, неистовствуя, они с ревом врывались в черные, ими же выдолбленные пещеры, словно в ярости своей стремились раздробить землю.
В нескольких милях от берега, на угрюмом, затерянном в море утесе, о который день за днем и год за годом разбивался свирепый прибой, стоял одинокий маяк. Огромные груды морских водорослей облепили его подножье, а буревестники (не порождение ли они ветра, как водоросли - порождение морских глубин?) кружили над ним, взлетая и падая, подобно волнам, которые они задевали крылом.
Но даже здесь двое людей, стороживших маяк, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое окно в каменной толще стены пламя бросало яркий луч света на бурное море. Протянув мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием, затем подняли тяжелые кружки с грогом и пожелали друг другу веселого праздника, а старший, чье лицо, подобно деревянной скульптуре на носу старого фрегата, носило следы жестокой борьбы со стихией, затянул бодрую песню, звучавшую как рев морского прибоя.
И вот уже Дух устремился вперед, над черным бушующим морем. Все вперед и вперед, пока - вдали от всех берегов, как сам он поведал Скруджу, - не опустился вместе с ним на палубу корабля. Они переходили от одной темной и сумрачной фигуры к другой, от кормчего у штурвала - к дозорному на носу, от дозорного - к матросам, стоявшим на вахте, и каждый из этих людей либо напевал тихонько рождественскую песнь, либо думал о наступивших святках, либо вполголоса делился с товарищем воспоминаниями о том, как он праздновал святки когда-то, и выражал надежду следующий праздник провести в кругу семьи. И каждый, кто был на корабле, - спящий или бодрствующий, добрый или злой, - нашел в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали был ему дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нем. Словом, так или иначе, но каждый отметил в душе этот великий день.
И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперед во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама Смерть, - каково же было его удивление, когда, погруженный в эти думы, он услышал вдруг веселый, заразительный смех. Но тут его ждала еще большая неожиданность, ибо он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а Дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит не на кого другого, как все на того же племянника!
- Ха-ха-ха! - заливался племянник Скруджа. - Ха-ха-ха!
Если вам, читатель, по какой-то невероятной случайности довелось знавать человека, одаренного завидной способностью смеяться еще более заразительно, чем племянник Скруджа, скажу одно: вам неслыханно повезло. Представьте меня ему, и я буду очень дорожить этим знакомством.
Болезнь и скорбь легко передаются от человека к человеку, но все же нет на земле ничего более заразительного, нежели смех и веселое расположение духа, и я усматриваю в этом целесообразное, благородное и справедливое устройство вещей в природе. Итак, племянник Скруджа покатывался со смеху, держась за бока, тряся головой и строя самые уморительные гримасы, а его жена, племянница Скруджа по мужу, глядя на него, смеялась столь же весело. Да и гости не отставали от хозяев - и тоже хохотали во все горло:
- Ха-ха-ха-ха-ха!
- Он сказал, что святки - это вздор, чепуха, чтоб мне пропасть! - кричал племянник Скруджа. - И ведь всерьез сказал, ей-богу!
- Да как ему не совестно, Фред! - с возмущением вскричала племянница. Ох, уж эти женщины! Они никогда ничего не делают наполовину и судят обо всем со всей решительностью.
Племянница Скруджа была очень хороша собой, - на редкость хороша. Прелестное личико, наивно-удивленный взгляд, ямочки на щеках. Маленький пухлый ротик казался созданным для поцелуев, как оно без сомнения и было. Крошечные ямочки на подбородке появлялись и исчезали, когда она смеялась, и ни одно существо на свете не обладало парой таких лучезарных глаз. Словом, надо признаться, что она умела подзадорить, но и приласкать - тоже.
- Он забавный старый чудак, - сказал племянник Скруджа. - Не особенно приветлив, конечно, ну что ж, его пороки несут в себе и наказание, и я ему не судья.
- Он ведь очень богат, Фред, - заметила племянница. - По крайней мере ты всегда мне это говорил.
- Да что с того, моя дорогая, - сказал племянник. - Его богатство ему не впрок. Оно и людям не приносит добра и ему не доставляет радости. Он лишил себя даже приятного сознания, что... ха-ха-ха!., что он может когда-нибудь осчастливить своими деньгами нас.
- Терпеть я его не могу! - заявила племянница, и сестры племянницы, да и все прочие дамы выразили совершенно такие же чувства.
- Ну, а по мне он ничего, - сказал племянник. - Мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни, даже если б захотел. Кто страдает от его злых причуд? Он сам - всегда и во всем. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас, и не пожелал прийти отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог весть какого.
- А я полагаю, что вовсе не плохого, - возразила племянница, и все поддержали ее, а так как они только что отобедали и собрались у камина, возле которого на столике уже горела лампа и был приготовлен десерт, то с мнением их нельзя не считаться.
- Что ж, рад это слышать, - промолвил племянник Скруджа. - А то я не очень-то верю в искусство молодых хозяюшек. А вы что скажете, Топпер?
Топпер, который совершенно явно имел виды на одну из сестер хозяйки, отвечал, что всякий холостой мужчина - это жалкий отщепенец и не имеет права высказывать суждение о таком предмете. При этих словах сестра племянницы - не та, что с розами у корсажа, а пухленькая, с гофрированной кружевной оборочкой у ворота, - залилась краской.
- Ну же, Фред, продолжай, - потребовала племянница Скруджа, хлопая в ладоши. - Вечно он начнет рассказывать и не кончит! Такой нелепый человек!
Племянник Скруджа снова покатился со смеху, и так как смех его был заразителен, все, как один, последовали его примеру, хотя пухленькая сестра племянницы и старалась противостоять заразе, усиленно нюхая флакончик с ароматическим уксусом.
- Я хотел только заметить, - сказал племянник Скруджа, - что его антипатия к нам и нежелание повеселиться с нами вместе лишили его возможности провести несколько часов в приятном обществе, что не причинило бы ему вреда. Это, я думаю, во всяком случае приятнее, чем сидеть наедине со своими мыслями в старой, заплесневелой конторе или в его замшелой квартире. И я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет, потому что мне его жаль. Он может до конца дней своих хулить святки, но волей-неволей станет лучше судить о них, если из года в год я буду приходить к нему и говорить от чистого сердца: "Как поживаете, дядюшка Скрудж?" Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать в завещании своему бедному клерку пятьдесят фунтов - с меня и того довольно. Мне, кстати, сдается, что мои слова тронули его вчера.
Его слова тронули Скруджа! Такая нелепая фантазия дала повод к новому взрыву смеха, но хозяину по причине его на редкость добродушного нрава было совершенно все равно, над кем смеются гости, лишь бы они веселились от души, и, стремясь поддержать их в этом настроении, он с довольным видом пустил вкруговую бутылку вина.
Напившись чая, решили заняться музыкой. В этом семействе музыка была в чести, и когда там принимались распевать песни на два, а то и на три голоса с хором, можете мне поверить, что исполняли их со знанием дела. Особенно отличался мистер Топпер, который очень усердно гудел басом, и при том без особой даже натуги, так что лицо у него не багровело и на лбу не надувались жилы. Племянница Скруджа недурно играла на арфе и в числе прочих музыкальных пьес исполнила одну простенькую песенку (совсем пустячок, вы бы через две минуты уже могли ее насвистать), которую певала когда-то одна маленькая девочка, та, что приехала однажды вечером, чтобы увезти Скруджа из пансиона. Это воспоминание воскресил в душе Скруджа Дух Прошлых Святок, и теперь, когда Скрудж услыхал знакомую мелодию, картины былого снова ожили в его памяти. Скрудж слушал, и сердце его смягчалось все более и более, и ему уже казалось, что, внимай он чаще этим звукам в давно минувшие годы, и, быть может, он всегда стремился бы только к добру на счастье себе и людям, и не пришлось бы духу Джейкоба Марли вставать из могилы.
Однако не одной только музыке был посвящен этот вечер. Помузицировав, принялись играть в фанты. Ведь так отрадно порой снова стать хоть на время детьми! А особенно хорошо это на святках, когда мы празднуем рождение божественного младенца.
Впрочем, постойте! Сначала играли в жмурки. Ну, конечно! И никто меня не убедит, что мистер Топпер действительно ничего не видел. Да я скорее поверю, что у него была еще одна пара глаз - на пятках. По-моему, они были в сговоре - он и племянник Скруджа. А Дух тоже был с ними заодно. Если бы вы видели, как мистер Топпер припустился прямиком за толстушкой с кружевной оборочкой, вы бы сами сказали, что это значит чересчур уж рассчитывать на легковерие человеческой натуры. Опрокидывая стулья, роняя каминные щипцы, налетая на фортепьяно, он неотступно гнался за ней по пятам и чуть не задохся, запутавшись в портьерах! Он всегда безошибочно знал, в каком конце комнаты находится пухленькая сестрица хозяйки, и не желал ловить никого другого. Даже если бы вы нарочно поддались ему (а кое-кто и пытался это проделать), он бы, для отвода глаз, пожалуй, притворился, что хочет вас словить, - да только какой бы дурак ему поверил! - и тотчас устремился бы в другом направлении - за пухлой сестрицей.
- Это нечестно! - восклицала она, и не раз, и оно в самом деле было нечестно. Но как ни увертывалась она от него, как ни проскальзывала, шелестя шелковыми юбками, перед самым его носом, ему все же удалось ее поймать, и вот тут - когда он загнал ее в угол, откуда ей уже не было спасения, - вот тут поведение его стало поистине чудовищным. Сколь гнусно было его притворство, когда он делал вид, что не узнает ее и должен коснуться лент у нее на голове и какого-то колечка на пальчике и какой-то цепочки на шее, чтобы удостовериться, что это действительно она. Без сомнения, она не преминула высказать ему свое мнение о нем, когда они, укрывшись за портьерой, поверяли друг другу какие-то секреты, в то время как с завязанными глазами бегал уже кто-то другой.
Племянница Скруджа не играла в жмурки. Ее удобно устроили в уютном уголке, усадив в глубокое кресло и подставив под ноги скамеечку, причем Дух и Скрудж оказались как раз за ее спиной. Но в фантах и она приняла участие, а когда играли в "Любишь не любишь" - так находчиво придумывала ответы на любую букву алфавита, что привела всех в неописуемый восторг. Столь же блистательно отличилась она и в игре "Как, Когда, Где" и к тайной радости племянника Скруджа совершенно затмила всех своих сестер, хотя они тоже были весьма шустрые девицы, что охотно подтвердил бы вам мистер Топпер. Гостей было человек двадцать, не меньше, и все - и молод и стар - принимали участие в играх, а вместе с ними и Скрудж. В своем увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных, и не раз громко заявлял о своей догадке, и она почти всегда оказывалась правильной, ибо самые острые иголки, что выпускает уайтчеплская игольная фабрика, не могли бы сравниться по остроте с умом Скруджа, за исключением, конечно, тех случаев, когда он считал почему-либо необходимым прикидываться тупицей.
Такое его поведение пришлось, должно быть, Призраку по вкусу, ибо он бросил на Скруджа довольно благосклонный взгляд. Скрудж принялся, как ребенок, выпрашивать у него разрешения побыть с гостями, пока они не отправятся по домам, но Дух отвечал, что это невозможно.
- Они затеяли новую игру! - молил Скрудж. - Ну хоть полчасика, Дух! Только полчасика!
Игра называлась "Да и Нет". Племянник Скруджа должен был задрать какой-нибудь предмет, а остальные - угадать, что он задумал. По условиям игры он мог отвечать на все вопросы только "да" или "нет". Под перекрестным огнем посыпавшихся на него вопросов удалось мало-помалу установить, что он задумал некое животное, - ныне здравствующее животное, довольно противное животное, свирепое животное, животное, которое порой ворчит, порой рычит, а порой вроде бы разговаривает, и которое живет в Лондоне, и ходит по улицам, и которое не водят на цепи и не показывают за деньги, и живет оно не в зверинце, и мясом его не торгуют на рынке, и это не лошадь, и не осел, и не корова, и не бык, и не тигр, и не собака, и не свинья и не кошка, и не медведь. При каждом новом вопросе племянник Скруджа снова заливался хохотом и в конце концов пришел в такой раж, что вскочил с дивана и начал от восторга топать ногами. Тут пухленькая сестричка племянницы расхохоталась вдруг так же неистово и воскликнула.
- Угадала! Я знаю, что вы задумали, Фред! Знак!
- Ну что? - закричал Фред.
- Это ваш дядюшка Скру-у-у-дж!
Да, так оно и было. Тут уж восторг стал всеобщим, хотя кое-кто нашел нужным возразить, что на вопрос: "Это медведь?" - следовало ответить не "нет", а "да", так как отрицательный ответ мог сбить с толку тех, кто уже был близок к истине.
- Ну, мы так потешились насчет старика, - сказал племянник, - что было бы черной неблагодарностью не выпить теперь за его здоровье. Прошу каждого взять свой бокал глинтвейна. Предлагаю тост за дядюшку Скруджа!
- За дядюшку Скруджа! - закричали все.
- Пожелаем старику, где бы он сейчас ни находился, веселого рождества и счастливого Нового года! - указал племянник. - Он не захотел принять от меня этих пожеланий, но пусть они все же сбудутся. Итак, за дядюшку Скруджа!
А дядюшка Скрудж тем временем незаметно для себя так развеселился, и на сердце у него стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей о его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы Дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и Дух со Скруджем снова пустились в странствие.
Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и немало повидали отдаленных мест, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел; он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близко; к изнемогающим в житейской борьбе - и они окрылялись новой надеждой; к беднякам - и они обретали в себе богатство. В тюрьмах, больницах и богадельнях, в убогих приютах нищеты - всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердца человека перед благодатным духом праздника, - всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия.
Долго длилась эта ночь, если то была всею одна лишь ночь, в чем Скрудж имел основания сомневаться, ибо ему казалось, что обе святочные недели пролетели с тех пор, как он пустился с Духом в путь. И еще одну странность заметил Скрудж: в то время как сам он внешне совсем не изменился, Призрак старел у него на глазах. Скрудж давно уже видел происходящую в Духе перемену, однако до поры до времени молчал. Но вот, покинув детский праздник, устроенный в крещенский вечер, и очутившись вместе с Духом на открытой равнине, он взглянул на него и заметил, что волосы его совсем поседели.
- Скажи мне, разве жизнь духов так коротка? - спросил его тут Скрудж.
- Моя жизнь на этой планете быстротечна, - отвечал Дух. - И сегодня ночью ей придет конец.
- Сегодня ночью? - вскричал Скрудж.
- Сегодня в полночь. Чу! Срок близится. В это мгновение часы на колокольне пробили три четверти двенадцатого.
- Прости меня, если об этом нельзя спрашивать, - сказал Скрудж, пристально глядя на мантию Духа. - Но мне чудится, что под твоим одеянием скрыто нечто странное. Что это виднеется из-под края твоей одежды - птичья лапа?
- Нет, даже на птичьей лапе больше мяса, чем на этих костях, - последовал печальный ответ Духа. - Взгляни!
Он откинул край мантии, и глазам Скруджа предстали двое детей - несчастные, заморенные, уродливые, жалкие и вместе с тем страшные. Стоя на коленях, они припали к ногам Духа и уцепились за его мантию.
- О Человек, взгляни на них! - воскликнул Дух. - Взгляни же, взгляни на них!
Это были мальчик и девочка. Тощие, мертвенно-бледные, в лохмотьях, они глядели исподлобья, как волчата, в то же время распластываясь у ног Духа в унизительной покорности. Нежная юность должна была бы цвести на этих щеках, играя свежим румянцем, но чья-то дряхлая, морщинистая рука, подобно руке времени, исказила, обезобразила их черты и иссушила кожу, обвисшую как тряпка. То, что могло бы быть престолом ангелов, стало приютом демонов, грозящих всему живому. За все века исполненной тайн истории мироздания никакое унижение или извращение человеческой природы, никакие нарушения ее законов не создавали, казалось, ничего столь чудовищного и отталкивающего, как эти два уродца.
Скрудж отпрянул в ужасе. Когда эти несчастные создания столь внезапно предстали перед ним, он хотел было сказать, что они очень славные дети, но слова застряли у него в горле, как будто язык не пожелал принять участия в такой вопиющей лжи.
- Это твои дети. Дух? - вот и все, что он нашел в себе силы произнести.
- Они - порождение Человека, - отвечал Дух, опуская глаза на детей. - Но видишь, они припали к моим стопам, прося защиты от тех, кто их породил. Имя мальчика - Невежество. Имя девочки - Нищета. Остерегайся обоих и всего, что им сродни, но пуще всего берегись мальчишки, ибо на лбу у него начертано "Гибель" и гибель он несет с собой, если эта надпись не будет стерта. Что ж, отрицай это! - вскричал Дух, повернувшись в сторону города и простирая к нему руку. -
Поноси тех, кто станет тебе это говорить! Используй невежество и нищету в своих нечистых, своекорыстных целях! Увеличь их, умножь! И жди конца!
- Разве нет им помощи, нет пристанища? - воскликнул Скрудж.
- Разве нет у нас тюрем? - спросил Дух, повторяя собственные слова Скруджа. - Разве нет у нас работных домов?
В это мгновение часы пробили полночь.
Скрудж оглянулся, ища Духа, но его уже не было. Когда двенадцатый удар колокола прогудел в тишине, Скрудж вспомнил предсказание Джейкоба Марли и, подняв глаза, увидел величественный Призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и, подобно облаку или туману, плывший над землей к нему навстречу.
Последний из Духов
Дух приближался - безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени.
Черное, похожее на саван одеяние Призрака скрывало его голову, лицо, фигуру - видна была только одна простертая вперед рука. Не будь этой руки, Призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружавшего его мрака.
Благоговейный трепет объял Скруджа, когда эта высокая величавая и таинственная фигура остановилась возле него. Призрак не двигался и не произносил ни слова, а Скрудж испытывал только ужас - больше ничего.
- Дух Будущих Святок, не ты ли почтил меня своим посещением? - спросил, наконец, Скрудж.
Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед.
- Ты намерен открыть мне то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем? - продолжал свои вопросы Скрудж. - Не так ли, Дух?
Складки одеяния, ниспадающего с головы Духа, слегка шевельнулись, словно Дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил.
Хотя общество привидений стало уже привычным для Скруджа, однако эта молчаливая фигура внушала ему такой ужас, что колени у него подгибались, и, собравшись следовать за Призраком, он почувствовал, что едва держится на ногах. Должно быть, Призрак заметил его состояние, ибо он приостановился на мгновение, как бы для того, чтобы дать ему возможность прийти в себя.
Но Скруджу от этой передышки стало только хуже. Необъяснимый ужас пронизывал все его существо при мысли о том, что под прикрытием этого черного, мрачного савана взор Призрака неотступно следит за ним, в то время как сам он, сколько бы ни напрягал зрение, не может разглядеть ничего, кроме этой мертвенно-бледной руки и огромной черной бесформенной массы.
- Дух Будущих Святок! - воскликнул Скрудж. - Я страшусь тебя. Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком и потому готов с сердцем, исполненным благодарности следовать за тобой. Разве ты не хочешь сказать мне что-нибудь?
Призрак ничего не ответил. Рука его по-прежнему была простерта вперед.
- Веди меня! - сказал Скрудж. - Веди! Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для меня драгоценна - я знаю это. Веди же меня, Призрак!
Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекало за собой.
Они вступили в город - вернее, город, казалось, внезапно сам вырос вокруг них и обступил их со всех сторон. И вот они уже очутились в центре города - на Бирже, в толпе коммерсантов, которые сновали туда и сюда и собирались группами, и поглядывали на часы, и позванивали монетами в кармане, и в раздумье перебирали массивные золотые брелоки, словом, все было, как всегда, - знакомая Скруджу картина.
Дух остановился возле небольшой кучки дельцов. Заметив, что рука Призрака указывает на них, Скрудж приблизился и стал прислушиваться к их разговору.
- Нет, - сказал огромный тучный мужчина с чудовищным тройным подбородком. - Об этом мне ничего не известно. Знаю только, что он умер.
- Когда же это случилось? - спросил кто-то.
- Да как будто прошедшей ночью.
- А что с ним было? - спросил третий, беря изрядную понюшку табаку из огромной табакерки. - Мне казалось, он всех переживет.
- А бог его знает, - промолвил первый и зевнул.
- Что же он сделал со своими деньгами? - спросил краснолицый господин, у которого с самого кончика носа свисал нарост, как у индюка.
- Не слыхал, не знаю, - отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул.
- Оставил их своей фирме, должно быть. Мне он их не оставил. Это-то уж я знаю доподлинно. Шутка была встречена общим смехом.
- Похоже, пышных похорон не будет, - продолжал человек с подбородком. - Пропади я пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Может, нам собраться компанией и показать пример?
- Что ж, если будут поминки, я не прочь, - отозвался джентльмен с наростом на носу. - За такой труд не грех и покормить.
Снова смех.
- Я, видать, бескорыстнее всех вас, - сказал человек с подбородком, - так как никогда не надеваю черных перчаток и никогда не завтракаю второй раз, но тем не менее готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить, так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались потолковать. Ну, до завтра, господа.
Собеседники разошлись в разные стороны и смешались с другими группами дельцов, а Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно посмотрел на Духа, ожидая от него объяснения.
Призрак двинулся к выходу. Перст его указывал на улицу, где только что повстречались двое людей. Скрудж прислушался к их беседе, полагая, что здесь он найдет, наконец, объяснение всему.
Этих людей он тоже знал как нельзя лучше. Оба были дельцами, весьма богатыми и весьма влиятельными. Скрудж всегда очень дорожил их мнением о себе. С деловой точки зрения, разумеется. Исключительно с деловой точки зрения.
- Добрый день, - сказал один.
- Добрый день, - отвечал другой.
- Слыхали? - сказал первый. - Он попал-таки, наконец, черту в лапы.
- Да, слыхал, - отвечал другой. - Каков мороз!
- Самый рождественский. Вы не любитель покататься на коньках?
- Нет, нет. Мало у меня без того забот! Мое почтение!
Вот и все, ни слова больше. Встретились, потолковали н разошлись.
Поначалу Скрудж был несколько удивлен, что Дух может придавать значение такой пустой на первый взгляд беседе, но потом решил, что в словах этих людей заключен какой-то скрытый смысл, и принялся размышлять, что же это такое. Разговоры эти едва ли могли иметь отношение к смерти Джейкоба, его старого компаньона, так как то было делом Прошлого, а областью Духа было Будущее. Но о ком же они толковали? У него же нет ни близких, ни друзей. Однако, ни секунды не сомневаясь, что в этих речах заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо, Скрудж решил сберечь в памяти своей, как драгоценнейший клад, все, что приведется ему увидеть или услышать, а прежде всего внимательно наблюдать за своим двойником, когда тот появится. Его собственное поведение в будущем даст, казалось ему, ключ ко всему происходящему и поможет разгадать все загадки.
Скрудж снова заглянул на Биржу, ища здесь своего двойника, но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось уже быть на Бирже, однако он не нашел себя ни там, ни в толпе, теснившейся у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принятое им в душе решение - совершенно изменить свой образ жизни - осуществилось.
Черной безмолвной тенью стоял рядом с ним Призрак с простертой вперед рукой. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука Призрака протянута к нему, а Невидимый Взор, - как ему почудилось, - пронизывает его насквозь. Скрудж содрогнулся и почувствовал, что кровь леденеет у него в жилах.
Покинув это оживленное место, они углубились в глухой район трущоб, куда Скрудж никогда прежде не заглядывал, хотя знал, где расположен этот квартал и какой дурной пользуется он славой. Узкие, грязные улочки; жалкие домишки и лавчонки; едва прикрытый зловонным тряпьем, пьяный, отталкивающий в своем убожестве люд. Глухие переулки, подворотни, словно стоки нечистот, извергали в лабиринт кривых улиц свою вонь, свою грязь, свой блуд, и весь квартал смердел пороком, преступлениями, нищетой.
В самой гуще этих притонов и трущоб стояла лавка старьевщика - низкая и словно придавленная к земле односкатной крышей. Здесь за гроши скупали тряпки, старые жестянки, бутылки, кости и прочую ветошь и хлам. На полу лавчонки были свалены в кучу ржавые гвозди, ключи, куски дверных цепочек, задвижки, чашки от весов, сломанные пилы, гири и разный другой железный лом. Кучи подозрительного тряпья, комья тухлого сала, груды костей скрывали, казалось, темные тайны, в которые мало кому пришла бы охота проникнуть. И среди всех этих отбросов, служивших предметом купли-продажи, возле сложенной из старого кирпича печурки, где догорали угли, сидел седой мошенник, довольно преклонного возраста. Отгородившись от внешнего мира с его зимней стужей при помощи занавески из полуистлевших лохмотьев, развешенных на веревке, он удовлетворенно посасывал трубку и наслаждался покоем в тиши своего уединения.
Когда Скрудж, ведомый Призраком, приблизился к этому человеку, какая-то женщина с объемистым узлом в руках крадучись шмыгнула в лавку. Но едва она переступила порог, как в дверях показалась другая женщина тоже с какой-то поклажей, а следом за ней в лавку вошел мужчина в порыжелой черной паре, и все трое были в равной мере поражены, узнав друг друга. С минуту длилось общее безмолвное изумление, которое разделил и старьевщик, посасывавший свою трубку. Затем трое пришедших разразились смехом.
- Уж будьте покойны, поденщица всегда поспеет первой! - воскликнула та, что опередила остальных. - Ну а прачка уж будет второй, а посыльный гробовщика - третьим. Смотри-ка, старина Джо, какой случай! Ведь не сговариваясь сошлись, видал?
- Что ж, лучшего места для встречи вам бы и не сыскать, - отвечал старик Джо, вынимая трубку изо рта. - Проходите в гостиную. Ты-то, голубушка, уж давно свой человек здесь, да и эти двое тоже не чужие. Погодите, я сейчас притворю дверь. Ишь ты! Как скрипит! Во всей лавке, верно, не сыщется куска такого старого ржавого железа, как эти петли, и таких старых костей, как мои. Ха-ха-ха! Здесь все одно другого стоит, всем нам пора на свалку. Проходите в гостиную! Проводите в гостиную!
Гостиной называлась часть комнаты, за тряпичной занавеской. Старик сгреб угли в кучу старым металлическим прутом от лестничного ковра, мундштуком трубки снял нагар с чадившей лампы (время было уже позднее) и снова сунул трубку в рот.
Тем временем женщина, которая пришла первой, швырнула свой узел на пол, с нахальным видом плюхнулась на табуретку, уперлась кулаками в колени и вызывающе поглядела на тех, кто пришел после нее.
- Ну, в чем дело? Чего это вы уставились на меня, миссис Дилбер? - сказала она. - Каждый вправе позаботиться о себе. Он-то это умел.
- Что верно, то верно, - сказала прачка. - И никто не умел так, как он.
- А коли так, чего же ты стоишь и таращишь глаза, словно кого-то боишься? Никто же не узнает. Ворон ворону глаз не выклюет.
- Да уж, верно, нет! - сказали в один голос миссис Дилбер и мужчина. - Уж это так.
- Вот и ладно! - вскричала поденщица. - И хватит об этом. Подумаешь, велика беда, если они там недосчитаются двух-трех вещичек вроде этих вот. Покойника от этого не убудет, думается мне.
- И в самом деле, - смеясь, поддакнула миссис Дилбер.
- Ежели этот старый скряга хотел, чтобы все у него осталось в целости-сохранности, когда он отдаст богу душу, - продолжала поденщица, - почему он не жил как все люди? Живи он по-людски, уж, верно, кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертный час, и не подох бы он так - один-одинешенек.
- Истинная правда! - сказала миссис Дилбер. - Это ему наказание за грехи.
- Эх, жалко, наказали-то мы его мало, - отвечала та. - Да, кабы можно было побольше его наказать, уж я бы охулки на руку не положила, верьте слову. Ну, ладно, развяжите-ка этот узел, дядюшка Джо, и назовите вашу цену. Говорите начистоту. Я ничего не боюсь - первая покажу свое добро. И этих не боюсь - пусть смотрят. Будто мы и раньше не знали, что каждый из нас прибирает к рукам, что может. Только я в этом греха не вижу. Развязывайте узел, Джо.
Но благородные ее друзья не пожелали уступить ей в отваге, и мужчина в порыжелом черном сюртуке храбро ринулся в бой и первым предъявил свою добычу. Она была невелика. Два-три брелока, вставочка для карандаша, пара запонок да дешевенькая булавка для галстука - вот, в сущности, и все. Старикашка Джо обследовал все эти предметы один за другим, оценил, проставил стоимость каждого мелом на стене и видя, что больше ждать нечего, подвел итог.
- Вот сколько вы получите, - сказал старьевщик, - и ни пенса больше, пусть меня сожгут живьем. Кто следующий?
Следующей оказалась миссис Дилбер. Она предъявила простыни и полотенца, кое-что из одежды, две старомодные серебряные ложечки, щипчики для сахара и несколько пар старых сапог. Все это также получило свою оценку мелом на стене.
- Дамам я всегда переплачиваю, - сказал старикашка. - Это моя слабость. Таким-то манером я и разоряюсь. Вот сколько вам следует. Если попросите накинуть еще хоть пенни и станете торговаться, я пожалею, что был так щедр, и сбавлю полкроны.
- А теперь развяжите мой узел, Джо, - сказана поденщица.
Старикашка опустился на колени, чтобы удобнее было орудовать, и, распутав множество узелков, извлек довольно большой и тяжелый сверток какой-то темной материи.
- Что это такое? - спросил старьевщик. - Никак полог?
- Ну да, - со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табурете. - Полог от кровати.
- Да неужто ты сняла всю эту штуку - всю, как есть, вместе с кольцами, - когда он еще лежал там?
- Само собой, сняла, - отвечала женщина. - А что такого?
- Ну, голубушка, тебе на роду написано нажить капитал, - заметил старьевщик. - И ты его наживешь.
- Скажите на милость, уж не ради ли этого скряги стану я отказываться от добра, которое плохо лежит, - невозмутимо отвечала женщина. - Не беспокойтесь, не на такую напали. Гляди, старик, не закапай одеяло жиром.
- Это его одеяло? - спросил старьевщик.
- А чье же еще? - отвечала женщина. - Теперь небось и без одеяла не простудится!
- А отчего он умер? Уж не от заразы ли какой? - спросил старик и, бросив разбирать веши, поднял глаза на женщину.
- Не бойся, - отвечала та. - Не так уж приятно было возиться с ним, а когда б он был еще и заразный, разве бы я стала из-за такого хлама. Эй, смотри, глаза не прогляди. Да можешь пялить их на эту сорочку, пока они не лопнут, тут не только что дырочки - ни одной обтрепанной петли не сыщется. Самая лучшая его сорочка. Из тонкого полотна. А кабы не я, так бы зря и пропала.
- Как это пропала? - спросил старьевщик.
- Да ведь напялили на него и чуть было в ней не похоронили, - со смехом отвечала женщина. - Не знаю, какой дурак это сделал, ну а я взяла да и сняла. Уж если простой коленкор и для погребения не годится, так на какую же его делают потребу? Нет, для него это в самый раз. Гаже все равно не станет, во что ни обряди.
Скрудж в ужасе прислушивался к ее словам. Он смотрел на этих людей, собравшихся вокруг награбленного добра при скудном свете лампы, и испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется из-за трупа.
- Ха-ха-ха! - рассмеялась поденщица, когда старикашка Джо достал фланелевый мешочек, отсчитал несколько монет и разложил их кучками на полу - каждому его долю. - Вот как все вышло! Видали? Пока был жив, он всех от себя отваживал, будто нарочно, чтоб мы могли поживиться на нем, когда он упокоится. Ха-ха-ха!
- Дух! - промолвил Скрудж, дрожа с головы до пят. - Я понял, понял! Участь этого несчастного могла быть и моей участью. Все шло к тому... Боже милостивый, Это еще что?
Он отпрянул в неизъяснимом страхе, ибо все изменилось вокруг и теперь он стоял у изголовья чьей-то кровати, едва не касаясь ее рукой. Стоял возле неприбранной кровати без полога, на которой под рваной простыней лежал кто-то, хотя и безгласный, но возвещавший о своей судьбе леденящим душу языком.
В комнате было темно, слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, хотя Скрудж, повинуясь какому-то внутреннему побуждению, и озирался по сторонам, стараясь понять, где он находится. Только слабый луч света, проникавший откуда-то извне, падал прямо на кровать, где ограбленный, обездоленный, необмытый, неоплаканный, покинутый всеми - покоился мертвец.
Скрудж взглянул на Духа. Его неподвижная рука указывала на голову покойника. Простыня была так небрежно наброшена на труп, что Скруджу стоило чуть приподнять край - только пальцем пошевелить, - и он увидел бы лицо. Скрудж понимал это, жаждал это сделать, знал, как это легко, но был бессилен откинуть простыню - так же бессилен, как и освободиться от Призрака, стоящего за его спиной.
О Смерть, Смерть, холодная, жестокая, неумолимая Смерть! Воздвигни здесь свой престол и окружи его всеми ужасами, коими ты повелеваешь, ибо здесь твои владения! Но если этот человек был любим и почитаем при жизни, тогда над ним не властна твоя злая сила, и в глазах тех, кто любил его, тебе не удастся исказить ни единой черты его лица! Пусть рука его теперь тяжела и падает бессильно, пусть умолкло сердце и кровь остыла в жилах, - но эта рука была щедра, честна и надежна, это сердце было отважно, нежно и горячо, и в этих жилах текла кровь человека, а не зверя. Рази, Тень, рази! И ты увидишь, как добрые его деяния - семена жизни вечной - восстанут из отверстой раны и переживут того, кто их творил!
Кто произнес эти слова? Никто. Однако они явственно прозвучали в ушах Скруджа, когда он стоял перед покойником. И Скрудж подумал: если бы этот человек мог встать сейчас со своего ложа, что первое ожило бы в его душе? Алчность, жажда наживы, испепеляющие сердце заботы? Да, поистине славную кончину они ему уготовили!
Вот он лежит в темном пустом доме, и нет на всем свете человека - ни мужчины, ни женщины, ни ребенка - никого, кто мог бы сказать: "Этот человек был добр ко мне, и в память того, что как-то раз он сказал мне доброе слово, я теперь позабочусь о нем".
Только кошка скребется за дверью, заслышав, как пищат под шестком крысы, пытаясь прогрызть себе лазейку. Что влечет этих тварей в убежище смерти, почему подняли они такую возню? Скрудж боялся об этом даже подумать.
- Дух! - сказал он. - Мне страшно. Верь мне - даже покинув это место, я все равно навсегда сохраню в памяти урок, который я здесь получил. Уйдем отсюда!
Но неподвижная рука по-прежнему указывала на изголовье кровати.
- Я понимаю тебя, - сказал Скрудж. - И я бы сделал это, если б мог. Но я не в силах, Дух. Не в силах!
И снова ему почудилось, что Призрак вперил в него взгляд.
- Если есть в этом городе хоть одна душа, которую эта смерть не оставит равнодушной, - вне себя от муки вскричал Скрудж, - покажи мне ее, Дух, молю тебя!
Черный плащ Призрака распростерся перед ним наподобие крыла, а когда он опустился, глазам Скруджа открылась освещенная солнцем комната, в которой находилась мать с детьми.
Мать, видимо, кого то ждала - с тревогой, с нетерпением. Она ходила из угла в угол, вздрагивая при каждом стуке, поглядывала то на часы, то в окно, бралась за шитье и тотчас его бросала, и видно было, как донимают ее возгласы ребятишек, увлеченных игрой. Наконец раздался долгожданный стук, и она бросилась отворить дверь. Вошел муж. Он был еще молод, но истомленное заботой лицо его говорило о перенесенных невзгодах. Впрочем, сейчас оно хранило какое-то необычное выражение: казалось, он чему-то рад и вместе с тем смущен и тщетно пытается умерить эту радость.
Он сел за стол - обед уже давно ждал его у камина, - и когда жена после довольно длительного молчания нерешительно спросила его, какие новости, этот вопрос окончательно привел его в замешательство.
- Скажи только - хорошие или дурные? - спросила она снова, стараясь прийти ему на помощь.
- Дурные, - последовал ответ.
- Мы разорены?
- Нет, Кэрелайн, есть еще надежда.
- Да ведь это, если он смягчится! - недоумевающе ответила она. - Конечно, если такое чудо возможно, тогда еще не все потеряно.
- Смягчиться уже не в его власти, - отвечал муж. - Он умер.
Если внешность его жены не была обманчива, - то это было кроткое, терпеливое создание. Однако, услыхав слова мужа, она возблагодарила в душе судьбу и, всплеснув руками, открыто выразила свою радость. В следующую секунду она уже устыдилась своего порыва и пожалела о нем, но все же таково было первое движение ее сердца.
- Выходит, эта полупьяная особа сообщила мне истинную правду вчера, когда я пытался проникнуть к нему и получить отсрочку на неделю, - помнишь, я рассказывал тебе. Я-то думал, что это просто отговорка, чтобы отделаться от меня. Но оказывается, он и в самом деле был тяжко болен. Более того - он умирал!
- Кому же должны мы теперь выплачивать долг?
- Не знаю. Во всяком случае, теперь мы успеем как-нибудь обернуться. А если и не успеем, то не может быть, чтобы наследник оказался столь же безжалостным кредитором, как покойный. Это была бы неслыханная неудача. Нет, мы можем сегодня заснуть спокойно, Кэрелайн!
Да, как бы ни пытались они умерить свою радость, у них отлегло от сердца. И у детей, которые, сбившись в кучку возле родителей, молча прислушивались к малопонятным для них речам, личики тоже невольно просветлели. Смерть человека принесла счастье в этот дом - вот что показал Дух Скруджу.
- Покажи мне другие, более добрые чувства, Дух, которые пробудила в людях эта смерть, - взмолился Скрудж, - или эта темная комната будет всегда неотступно стоять перед моими глазами.
И Дух повел Скруджа по улицам, где каждый булыжник был ему знаком, и по пути Скрудж все озирался по сторонам в надежде увидеть своего двойника, но так и не увидел его. И вот они вступили в убогое жилище Боба Крэтчита, которое Скруджу уже удалось посетить однажды, и увидали мать и детей, сидевших у очага.
Тишина. Глубокая тишина. Шумные маленькие Крэтчиты, сидят в углу безмолвные и неподвижные, как изваяния. Взгляд их прикован к Питеру, который держит в руках раскрытую книгу. Мать и дочь заняты шитьем. Но как они все молчаливы!
- И взяв дитя, поставил его посреди них!*
Где Скрудж еще раньше слыхал эти слова не в грезах, а наяву? А сейчас их, верно, прочел вслух Питер - в ту минуту, когда Скрудж и Дух переступали порог. Почему же он замолчал?
Мать положила шитье на стол и прикрыла глаза рукой.
- От черного глаза ломит, - сказала она.
От черного? !Ах, бедный, бедный, Малютка Тим!
- Вот уже и полегчало, - сказала миссис Крэтчит. - Глаза слезятся от работы при свечах. Не хватало еще, чтобы ваш отец застал меня с красными глазами. Кажется, ему пора бы уже быть дома.
- Давно пора, - сказал Питер, захлопывая книгу. - Но знаешь, мама, последние дни он стал ходить как-то потише, чем всегда.
Все снова примолкли. Наконец мать сказала спокойным, ровным голосом, который всего лишь раз чуть-чуть дрогнул.
- А помнится, как быстро он ходил с Малюткой Тимом на плече.
- Да, и я помню! - вскричал Питер. - Я часто видел.
- И я видел! - воскликнул один из маленьких Крэтчитов, и дочери тоже это подтвердили.
- Да ведь он был как перышко! - продолжала мать, низко склонившись над шитьем. - А отец так его любил, что для него это совсем не составляло труда. А вот и он сам!
Она поспешила к мужу навстречу, и маленький Боб в своем неизменном шарфе - без него он бы продрог до костей, бедняга! - вошел в комнату. Чайник с чаем уже дожидался хозяина на очаге, и все наперебой стали наливать ему чай и ухаживать за ним.
Затем двое маленьких Крэтчитов взобрались к отцу на колени, и каждый прижался щечкой к его щеке, как бы говоря: "Не печалься, папа! Не надо!"
Боб весело болтал с ребятишками и обменивался ласковыми словами со всеми членами своего семейства. Заметив лежавшее на столе шитье, он похвалил миссис Крэтчит и дочерей за прилежание и сноровку. Они закончат все куда раньше воскресенья, заметил он.
- Воскресенья? - А ты был там сегодня, Роберт? - спросила жена.
- Да, моя дорогая, - отвечал Боб. - И жалею, что ты не могла пойти. Тебе было бы отрадно поглядеть, как там все зелено. Но ты же будешь часто его навещать. А я обещал ему ходить туда каждое воскресенье. Сыночек мой, сыночек! - внезапно вскричал
Боб. - Маленький мой! Крошка моя!
Слезы хлынули у него из глаз. Он не мог их сдержать. Слишком уж он любил сынишку, чтобы совладать с собой.
Он поднялся наверх - в ярко и весело освещенную комнату, разубранную зелеными ветвями остролиста. Возле постели ребенка стоял стул, и по всему видно было, что кто-то, быть может всего минуту назад, был здесь, сидел у этой кроватки... Бедняга Боб тоже присел на стул, посидел немного, погруженный в думу, и когда ему удалось справиться со своей скорбью, поцеловал маленькое личико. Он спустился вниз умиротворенный, покорившийся неизбежности.
Опять все собрались у огня, и потекла беседа. Мать и дочери снова взялись за шитье. Боб принялся рассказывать им о необыкновенной доброте племянника Скруджа, который и видел-то его всего-навсего один-единственный раз, но тем не менее сегодня, встретившись с ним на улице и заметив, что он немного расстроен, - ну просто самую малость приуныл, пояснил Боб, - стал участливо расспрашивать, что его так огорчило.
- Более приятного, обходительного господина я еще в жизни не встречал, - сказал Боб. - Ну, я тут же все ему и рассказал. "От всего сердца соболезную вам, мистер Крэтчит, - сказал он. - И вам и вашей доброй супруге". Кстати, откуда он это-то мог узнать, не понимаю.
- Что "это", мой дорогой?
- Да вот - что ты добрая супруга, - отвечал Боб.
- Кто ж этого не знает! - вскричал Питер.
- Правильно, сынок, - сказал Боб. - Все знают, думается мне. "От всего сердца соболезную вашей доброй супруге, - сказал он. - Если я могу хоть чем-нибудь быть вам полезен, прошу вас, приходите ко мне, вот мой адрес", - сказал он и дал мне свою визитную карточку!
- И дело даже не в том, что он может чем-то нам помочь, - продолжал Боб, - Дело в том, что он был так добр, - вот что замечательно! Ну, прямо, будто он знал нашего Малютку Тима и горюет вместе с нами.
- По всему видно, что это добрая душа, - заметила миссис Крэтчят.
- А если б ты его видела, моя дорогая, да поговорила с ним, что бы ты тогда сказала! - отвечал Боб. -
Я ничуть не удивлюсь, если он пристроит Питера на какое-нибудь хорошее местечко, помяни мое слово.
- Ты слышишь, Питер! - сказала миссис Крэтчит.
- А тогда, - воскликнула одна из девочек, - Питер найдет себе невесту и обзаведется своим домом.
- Отвяжись, - ухмыльнулся Питер.
- Конечно, со временем это может случиться, моя дорогая, - сказал Боб. - Однако спешить, мне кажется, некуда. Но когда бы и как бы мы ни разлучились друг с другом, я уверен, что никто из нас не забудет нашего бедного Малютку Тима... не так ли? Не забудет этой первой разлуки в нашей семье.
- Никогда, отец! - воскликнули все в один голос.
- И я знаю, - продолжал Боб, - знаю, мои дорогие, что мы всегда будем помнить, как кроток и терпелив был всегда наш дорогой Малютка, и никогда не станем ссориться - ведь это значило бы действительно забыть его!
- Никогда, никогда, отец! - снова последовал дружный ответ.
- Я счастлив, когда слышу это, - сказал Боб. - Я очень счастлив.
Тут миссис Крэтчит поцеловала мужа, а за ней - и обе старшие дочки, а за ними - и оба малыша, а Питер потряс отцу руку. Малютка Тим! В твоей младенческой душе тлела святая господня искра!
- Дух, - сказал Скрудж. - Что-то говорит мне, что час нашего расставанья близок. Я знаю это, хотя мне и неведомо - откуда. Скажи, кто был этот усопший человек, которого мы видели?
Дух Будущих Святок снова повлек его дальше и, как показалось Скруджу, перенес в какое-то иное время (впрочем, последние видения сменяли друг друга без всякой видимой связи и порядка - их объединяло лишь то, что все они принадлежали будущему) и привел в район деловых контор, но и тут Скрудж не увидел себя. А Дух все продолжал увлекать его дальше, как бы к некоей твердо намеченной цели, пока Скрудж не взмолился, прося его помедлить немного.
- В этом дворе, через который мы так поспешно проходим, - сказал Скрудж, - находится моя контора. Я работаю тут уже много лет. Вон она. - Покажи же мне, что ждет меня впереди!
Дух приостановился, но рука его была простерта в другом направлении.
- Этот дом здесь! - воскликнул Скрудж. - Почему же ты указываешь в другую сторону, Дух?
Неумолимый перст не дрогнул.
Скрудж торопливо шагнул к окну своей конторы и заглянул внутрь. Да, это по-прежнему была контора - только не его. Обстановка стала другой, и в кресле сидел не он. А рука Призрака все также указывала куда-то вдаль.
Скрудж снова присоединился к Призраку и, недоумевая - куда же он сам-то мог подеваться? - последовал за ним. Наконец они достигли какой-то чугунной ограды. Прежде чем ступить за эту ограду, Скрудж огляделся по сторонам.
Кладбище. Так вот где, должно быть, покоятся останки несчастного, чье имя предстоит ему, наконец, узнать. Нечего сказать, подходящее для него место упокоения! Тесное - могила к могиле, - сжатое со всех сторон домами, заросшее сорной травой - жирной, впитавшей в себя не жизненные соки, а трупную гниль. Славное местечко!
Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. Скрудж, трепеща, шагнул к ней. Ничто не изменилось в обличье Призрака, но Скрудж с ужасом почувствовал, что какой-то новый смысл открывается ему в этой величавой фигуре.
- Прежде чем я ступлю последний шаг к этой могильной плите, на которую ты указуешь, - сказал Скрудж, - ответь мне на один вопрос, Дух. Предстали ли мне призраки того, что будет, или призраки того, что может быть?
Но Дух все также безмолвствовал, а рука его указывала на могилу, у которой он остановился.
- Жизненный путь человека, если неуклонно ему следовать, ведет к предопределенному концу, - произнес Скрудж. - Но если человек сойдет с этого пути, то и конец будет другим. Скажи, ведь так же может измениться и то, что ты показываешь мне сейчас?
Но Призрак по-прежнему был безмолвен и неподвижен.
Дрожь пробрала Скруджа с головы до пят. На коленях он подполз к могиле и, следуя взглядом за указующим перстом Призрака, прочел на заросшей травой каменной плите свое собственное имя: ЭБИНИЗЕР СКРУДЖ.
- Так это был я - тот, кого видели мы на смертном одре? - возопил он, стоя на коленях.
Рука Призрака указала на него и снова на могилу.
- Нет, нет, Дух! О нет!
Рука оставалась неподвижной.
- Дух! - вскричал Скрудж, цепляясь за его подол. - Выслушай меня' Я уже не тот человек, каким был. И я уже не буду таким, каким стал бы, не доведись мне встретиться с тобой. Зачем показываешь ты мне все это если нет для меня спасения!
В первый раз за все время рука Призрака чуть приметно дрогнула.
- Добрый Дух, - продолжал молить его Скрудж, распростершись перед ним на земле. - Ты жалеешь меня, самая твоя природа побуждает тебя к милосердию. Скажи же, что, изменив свою жизнь, я могу еще спастись от участи, которая мне уготована.
Благостная рука затрепетала.
- Я буду чтить рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим, и воспоминание о трех Духах всегда будет живо во мне. Я не забуду их памятных уроков, не затворю своего сердца для них. О, скажи, что я могу стереть надпись с этой могильной плиты!
И Скрудж в беспредельной муке схватил руку Призрака. Призрак сделал попытку освободиться, но отчаяние придало Скруджу силы, и он крепко вцепился в руку. Все же Призрак оказался сильнее и оттолкнул Скруджа от себя.
Воздев руки в последней мольбе, Скрудж снова воззвал к Духу, чтобы он изменил его участь, и вдруг заметил, что в обличье Духа произошла перемена. Его капюшон и мантия сморщились, обвисли, весь он съежился и превратился в резную колонку кровати.
Заключение
Да! И это была колонка его собственной кровати, и комната была тоже его собственная. А лучше всего и замечательнее всего было то, что и Будущее принадлежало ему и он мог еще изменить свою судьбу.
- Я искуплю свое Прошлое Настоящим и Будущим! - повторил Скрудж, проворно вылезая из постели. - И память о трех Духах будет вечно жить во мне! О Джейкоб Марли! Возблагодарим же Небо и светлый праздник рождества! На коленях возношу я им хвалу, старина Джейкоб! На коленях!
Он так горел желанием осуществить свои добрые намерения и так был взволнован, что голос не повиновался ему, а лицо все еще было мокро от слез, ибо он рыдал навзрыд, когда старался умилостивить Духа.
- Он здесь! - кричал Скрудж, хватаясь за полог и прижимая его к груди. - Он здесь, и кольца здесь, и никто его не срывал! Все здесь... и я здесь... и да сгинут призраки того, что могло быть! И они сгинут, я знаю! Они сгинут!
Говоря так, он возился со своей одеждой, выворачивал ее наизнанку, надевал задом наперед, совал руку не в тот рукав, и ногу не в ту штанину, - словом, проделывал в волнении кучу всяких несообразностей.
- Сам не знаю, что со мной творится! - вскричал он, плача и смеясь и с помощью обвившихся вокруг него чулок превращаясь в некое подобие Лаокоона. - Мне так легко, словно я пушинка, так радостно, словно я ангел, так весело, словно я школьник! А голова идет кругом, как у пьяного! Поздравляю с рождеством, с веселыми святками всех, всех! Желаю счастья в Новом году всем, всем на свете! Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ура! Ой-ля-ля!
Он резво ринулся в гостиную и остановился, запыхавшись.
- Вот и кастрюлька, в которой была овсянка! - воскликнул он и снова забегал по комнате. - А вот через эту дверь проникла сюда Тень Джейкоба Марли! А в этом углу сидел Дух Нынешних Святок! А за этим окном я видел летающие души. Все так, все на месте, и все это было, было! Ха-ха-ха!
Ничего не скажешь это был превосходный смех, смех, что надо, - особенно для человека, который давно уже разучился смеяться. И ведь это было только начало, только предвестие еще многих минут такого же радостного, веселого, задушевного смеха.
- Какой же сегодня день, какое число? - вопросил Скрудж. - Не знаю, как долго пробыл я среди Духов. Не знаю. Я ничего не знаю. Я как новорожденное дитя. Пусть! Не беда. Оно и лучше - быть младенцем. Гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Ура! Ой-ля-ля!
Его ликующие возгласы прервал церковный благовест. О, как весело звонили колокола! Динь-динь-бом! Динь-динь-бом! Дили-дили-дили! Дили-дили-дили! Бом-бом-бом! О, как чудесно! Как дивно, дивно!
Подбежав к окну, Скрудж поднял раму и высунулся наружу. Ни мглы, ни тумана! Ясный, погожий день. Колкий, бодрящий мороз. Он свистит в свою ледяную дудочку и заставляет кровь, приплясывая, бежать по жилам. Золотое солнце! Лазурное небо!
Прозрачный свежий воздух! Веселый перезвон колоколов! О, как чудесно! Как дивно, дивно!
- Какой нынче день? - свесившись вниз, крикнул Скрудж какому-то мальчишке, который, вырядившись, как на праздник, торчал у него под окнами и глазел по сторонам.
- ЧЕГО? - в неописуемом изумлении спросил мальчишка.
- Какой у нас нынче день, милый мальчуган? - повторил Скрудж.
- Нынче? - снова изумился мальчишка. - Да ведь нынче РОЖДЕСТВО!
"Рождество! - подумал Скрудж. - Так я не пропустил праздника! Духи свершили все это в одну ночь. Они все могут, стоит им захотеть. Разумеется, могут. Разумеется".
- Послушай, милый мальчик!
- Эге? - отозвался мальчишка.
- Ты знаешь курятную лавку, через квартал отсюда, на углу? - спросил Скрудж.
- Ну как не знать! - отвечал тот.
- Какой умный ребенок! - восхитился Скрудж. - Изумительный ребенок! А не знаешь ли ты, продали они уже индюшку, что висела у них в окне? Не маленькую индюшку, а большую, премированную?
- Самую большую, с меня ростом?
- Какой поразительный ребенок! - воскликнул Скрудж. - Поговорить с таким одно удовольствие. Да, да, самую большую, постреленок ты этакий!
- Она и сейчас там висит, - сообщил мальчишка.
- Висит? - сказал Скрудж. - Так сбегай купи ее.
- Пошел ты! - буркнул мальчишка.
- Нет, нет, я не шучу, - заверил его Скрудж. - Поди купи ее и вели принести сюда, а я скажу им, куда ее доставить. Приведи сюда приказчика и получишь от меня шиллинг. А если обернешься в пять минут, получишь полкроны!
Мальчишка полетел стрелой, и, верно, искусна была рука, спустившая эту стрелу с тетивы, ибо она не потеряла даром ни секунды.
- Я пошлю индюшку Бобу Крэтчиту! - пробормотал Скрудж и от восторга так и покатился со смеху. - То-то он будет голову ломать - кто это ему прислал. Индюшка-то, пожалуй, вдвое больше крошки Тима. Даже Джо Миллеру * никогда бы не придумать такой штуки, - послать индюшку Бобу!
Перо плохо слушалось его, но он все же нацарапал кое-как адрес и спустился вниз, - отпереть входную дверь. Он стоял, поджидая приказчика, и тут взгляд его упал на дверной молоток.
- Я буду любить его до конца дней моих! - вскричал Скрудж, поглаживая молоток рукой. - А ведь я и не смотрел на него прежде. Какое у него честное, открытое лицо! Чудесный молоток! А вот и индюшка! Ура! Гоп-ля-ля! Мое почтение! С праздником!
Ну и индюшка же это была - всем индюшкам индюшка! Сомнительно, чтобы эта птица могла когда-нибудь держаться на ногах - они бы подломились под ее тяжестью, как две соломинки.
- Ну нет, вам ее не дотащить до Кемден-Тауна, - сказал Скрудж. - Придется нанять кэб.
Он говорил это, довольно посмеиваясь, и, довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку, и, довольно посмеиваясь, заплатил за кэб, и, довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой и, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам.
Побриться оказалось нелегкой задачей, так как руки у него все еще сильно тряслись, а бритье требует сугубой осторожности, даже если вы не позволяете себе пританцовывать во время этого занятия. Впрочем, отхвати Скрудж себе кончик носа, он преспокойно залепил бы рану пластырем и остался бы и тут вполне всем доволен.
Наконец, приодевшись по-праздничному, он вышел из дому. По улицам уже валом валил народ - совсем как в то рождественское утро, которое Скрудж провел с Духом Нынешних Святок, и, заложив руки за спину, Скрудж шагал по улице, сияющей улыбкой приветствуя каждого встречного. И такой был у него счастливый, располагающий к себе вид, что двое-трое прохожих, дружелюбно улыбнувшись в ответ, сказали ему:
- Доброе утро, сэр! С праздником вас!
И Скрудж не раз говаривал потом, что слова эти прозвучали в его ушах райской музыкой.
Не успел он отдалиться от дому, как увидел, что навстречу ему идет дородный господин - тот самый, что, зайдя к нему в контору в сочельник вечером, спросил:
- Скрудж и Марли, если не ошибаюсь?
У него упало сердце при мысли о том, каким взглядом подарит его этот почтенный старец, когда они сойдутся, но он знал, что не должен уклоняться от предначертанного ему пути.
- Приветствую вас, дорогой сэр, - сказал Скрудж, убыстряя шаг и протягивая обе руки старому джентльмену. - Надеюсь, вы успешно завершили вчера ваше предприятие? Вы затеяли очень доброе дело. Поздравляю вас с праздником, сэр!
- Мистер Скрудж?
- Совершенно верно, - отвечал Скрудж. - Это имя, но боюсь, что оно звучит для вас не очень-то приятно. Позвольте попросить у вас прощения. И вы меня очень обяжете, если... - Тут Скрудж прошептал ему что-то на ухо.
- Господи помилуй! - вскричал джентльмен, разинув рот от удивления. - Мой дорогой мистер Скрудж, вы шутите?
- Ни в коей мере, - сказал Скрудж. - И прошу вас, ни фартингом меньше. Поверьте я этим лишь оплачиваю часть своих старинных долгов. Можете вы оказать мне это одолжение?
- Дорогой сэр! - сказал тот, пожимая ему руку. - Я просто не знаю, как и благодарить вас, такая щедр...
- Прошу вас, ни слова больше, - прервал его Скрудж. - Доставьте мне удовольствие - зайдите меня проведать. Очень вас прошу.
- С радостью! - вскричал старый джентльмен, и не могло быть сомнения, что это говорилось от души.
- Благодарю вас, - сказал Скрудж. - Тысячу раз благодарю! Премного вам обязан. Дай вам бог здоровья!
Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь, и все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка - да и вообще что бы то ни было - может сделать его таким счастливым!
А когда стало смеркаться, он направил свои стопы к дому племянника.
Не раз и не два прошелся он мимо дома туда и обратно, не решаясь постучать в дверь. Наконец, собравшись с духом, поднялся на крыльцо.
- Дома хозяин? - спросил он девушку, открывшую ему дверь. Какая милая девушка! Прекрасная девушка!
- Дома, сэр.
- А где он, моя прелесть? -спросил Скрудж.
- В столовой, сэр, и хозяйка тоже. Позвольте, я вас провожу.
- Благодарю. Ваш хозяин меня знает, - сказал Скрудж, уже взявшись за ручку двери в столовую. - Я пройду сам, моя дорогая.
Он тихонько повернул ручку и просунул голову в дверь. Хозяева в эту минуту обозревали парадно накрытый обеденный стол. Молодые хозяева постоянно бывают исполнены беспокойства по поводу сервировки стола и готовы десятки раз проверять, все ли на месте.
- Фред! - позвал Скрудж.
Силы небесные, как вздрогнула племянница! Она сидела в углу, поставив ноги на скамеечку, и Скрудж совсем позабыл про нее в эту минуту, иначе он никогда и ни под каким видом не стал бы так ее пугать.
- С нами крестная сила! - вскричал Фред. - Кто это?
- Это я, твой дядюшка Скрудж. Я пришел к тебе пообедать. Ты примешь меня, Фред?
Примет ли он дядюшку! Да он на радостях едва не оторвал ему напрочь руку. Через пять минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Такого сердечного приема он еще отродясь не встречал.
Племянница выглядела совершенно так же, как в том видении, которое явилось ему накануне. То же самое можно было сказать и про Топпера, который вскоре пришел, и про пухленькую сестричку, которая появилась следом за ним, да и про всех, когда все были в сборе.
Ах, какой это был чудесный вечер! И какие чудесные игры! И какое чудесное единодушие во всем! Какое счастье!
А наутро, чуть свет, Скрудж уже сидел у себя в конторе. О да, он пришел спозаранок. Он горел желанием попасть туда раньше Боба Крэтчита и уличить клерка в том, что он опоздал на работу. Скрудж просто мечтал об этом.
И это ему удалось! Да, удалось! Часы пробили девять. Боба нет. Четверть десятого. Боба нет. Он опоздал ровно на восемнадцать с половиной минут. Скрудж сидел за своей конторкой, настежь распахнув дверь, чтобы видеть, как Боб проскользнет в свой чуланчик.
Еще за дверью Боб стащил с головы шляпу и размотал свой теплый шарф. И вот он уже сидел на табурете и с такой быстротой скрипел по бумаге пером, словно хотел догнать и оставить позади ускользнувшие от него девять часов.
- А вот и вы! - проворчал Скрудж, подражая своему собственному вечному брюзжанию. - Как прикажете понять ваше появление на работе в этот час дня?
- Прошу прощения, сэр, - сказал Боб. - Я в самом деле немного опоздал!
- Ах, вот как! Вы опоздали? - подхватил Скрудж. - О да, мне тоже сдается, что вы опоздали. Будьте любезны, потрудитесь подойти сюда, сэр.
- Ведь это один-единственный раз за весь год, сэр, - жалобно проговорил Боб, выползая из своего чуланчика. - Больше этого не будет, сэр. Я позволил себе вчера немного повеселиться.
- Ну вот, что я вам скажу, приятель, - промолвил Скрудж. - Больше я этого не потерплю, а посему... - Тут он соскочил со стула и дал Бобу такого тумака под ложечку, что тот задом влетел обратно в свой чулан. - А посему, - продолжал Скрудж, - я намерен прибавить вам жалования!
Боб задрожал и украдкой потянулся к линейке. У него мелькнула было мысль оглушить Скруджа ударом по голове, скрутить ему руки за спиной, крикнуть караул и ждать, пока принесут смирительную рубашку.
- Поздравляю вас с праздником, Боб, - сказал Скрудж, хлопнув Боба по плечу, и на этот раз видно было, что он в полном разуме. - И желаю вам, Боб, дружище, хорошенько развлечься на этих святках, а то прежде вы по моей милости не очень-то веселились. Я прибавлю вам жалования и постараюсь что-нибудь сделать и для вашего семейства. Сегодня вечером мы потолкуем об этом за бокалом рождественского глинтвейна, а сейчас, Боб Крэтчит, прежде чем вы нацарапаете еще хоть одну запятую, я приказываю вам сбегать купить ведерко угля да разжечь пожарче огонь.
И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал Бобу, и даже больше, куда больше. А Малютке Тиму, который, к слову сказать, вскоре совсем поправился, он был всегда вторым отцом. И таким он стал добрым другом, таким тароватым хозяином, и таким щедрым человеком, что наш славный старый город может им только гордиться. Да и не только наш - любой добрый старый город, или городишко, или селение в любом уголке нашей доброй старой земли. Кое-кто посмеивался над этим превращением, но Скрудж не обращал на них внимания - смейтесь на здоровье! Он был достаточно умен и знал, что так уж устроен мир, - всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию доброе дело. Он понимал, что те, кто смеется, - слепы, и думал: пусть себе смеются, лишь бы не плакали! На сердце у него было весело и легко, и для него этого было вполне довольно.
Больше он уже никогда не водил компании с духами, - в этом смысле он придерживался принципов полного воздержания, - и про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и про нас могли сказать то же самое! Про всех нас! А теперь нам остается только повторить за Малюткой Тимом: да осенит нас всех господь бог своею милостью!
Новогодний каталог 2022 год! Чудеса
Чудеса случаются, а желания исполняются! Наведите курсор на понравившуюся книгу и прочитайте новогоднее предсказание или пожелание, которое обязательно сбудется в Новом году.
Новогодний каталог 2022 год! Традиции

В России - Дед Мороз, на Чукотке - Тыкывак, а в Японии - Семь богов счастья....
Приглашаем открыть для себя красочный мир новогодних традиций, примет и символов Нового года с помощью книг из редкого фонда библиотеки.
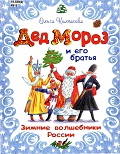

http://libavtograd.ru/k2/itemlist/user/15-olga?start=1100#sigProGalleria7fa199a3a6
Новогодний каталог 2022 год! Снежинки
Для учёных Снежинка - это отдельный снежный или ледяной кристалл, выпадающий из облаков в виде атмосферных осадков с размерами от долей до нескольких миллиметров... но под новый год, в нашем полушарии, эти волшебные кристаллы становятся неотъемлемой частью новогоднего чуда. В фонде редких книги вы откроете для себя всю красоту снежинок и научитесь создавать кристалл своими руками. А спутником вам будет прекрасный "Вальс снежинок" Петра Ильича Чайковского, который звучит на этой страничке.